Виктор Петренко
Богословие икон
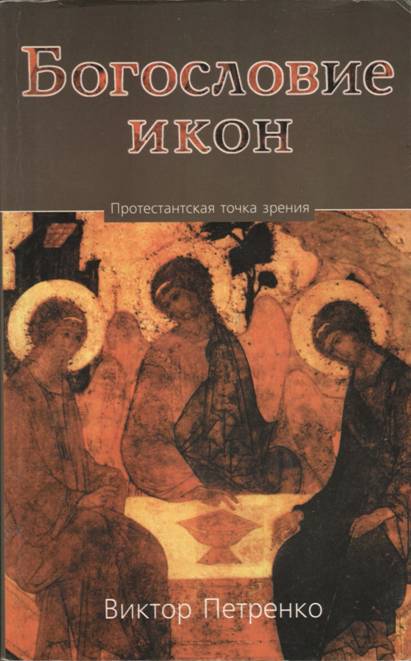
В. И. Петренко
БОГОСЛОВИЕ ИКОН
Протестантская точка зрения
Тезис, представленный на соискание степени
магистра богословия
![]()
«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ»
Санкт–Петербург
2000
Одобрен Брюннельским университетом в марте 1997 года
Посвящается памяти моей дорогой мамы – Матери Христианки, чей христианский пример и образ жизни явились вдохновением для моей жизни и служения Господу.
ISBN 5-7454-0487-6 © В. И. Петренко, 2000
Существование икон в православной церкви свидетельствует об эволюции художественных, религиозных и психологических аспектов в человечестве, которое хотя и отделено от Бога после грехопадения Адама и Евы, все же так или иначе на протяжении своего существования стремилось к Богу. В течение всей своей истории человечество искало ответ на вопрос о том, как можно стать ближе к Богу и вступить в общение с Ним.
Синкретизм[1] в религиозном сознании и вере в древние времена подготовил условия для прихода христианства, которое «перевоплотило» существовавшие тогда убеждения и верования и свело их в единый аспект Божьего откровения в истории человечества — перевоплощение нашего Господа Иисуса Христа. Отвергая основные принципы языческой культуры — веру в множество богов — христианство, тем не менее, позаимствовало наглядные представления и использовало их для объяснения взаимоотношений между временным и вечным, человеческим и божественным через художественные средства выражения.
Эстетические чувства человека древнего мира, смешанные с философско-религиозными представлениями о человеческом и божественном, святости и общности, защищенности и уязвимости, привели в итоге к появлению «христианизированных» материальных объектов, которые стали рассматриваться в качестве посредничества между человеческим и божественным.
С правления императора Константина в IV веке по Р. X., когда христианство обрело статус государственной религии, иконы стали главным центром внимания как в частной, так, позднее, и в общественной религиозной жизни. Споры о Христе и Троице подготовили почву для восприятия философских идей и включения их в богословие иконы в то время, когда почитание икон происходило на уровне народной религии. Недостаток обучения и контроля над правильным исповеданием христианской веры со стороны церковных властей привел к развитию среди мирян суеверных убеждений в том, что икона обладает магической силой. Это, в свою очередь, привело к протесту против всякого рода благоговения перед образами со стороны определенных отцов церкви, что закончилось взрывом иконоборчества в VIII — IX веках по Р. X.
Иконоборчество, однако, не смогло изменить народную религию, и в конце концов православие одержало победу, сумев создать философско-богословское обоснование почитанию икон. Таким образом, икона вступила в новый этап своего развития и впоследствии стала неотъемлемой частью православной церкви и христианского наследия.
Оглавление
Резюме 4
Предисловие 11
Сокращения 14
Вступление 15
Глава 1
Происхождение и историческое
развитие иконы 17
1.1. Предварительные ремарки 17
1.2. Египет 18
1.2.1. Египетское христианство 19
1.3. Греко-римский синтез 21
1.3.1. Предварительные ремарки 21
1.3.2. Греческая религия 21
1.3.3. Религия и искусство 23
1.3.4. Римская религия 24
1.4. Ранняя христианская церковь и её искусство 26
1.4.1. Период до правления Константина 26
1.4.1.1. Предварительные ремарки 26
1.4.1.2. Археологические и социологические
свидетельства 26
1.4.2. Период правления Константина
и последующий за ним период 29
1.4.2.1. Социо-политические свидетельства 29
1.4.2.2. Археологические свидетельства 30
1.4.2.3. Культ образов 31
1.5. Иконоборчество 33
1.5.1. Период до иконоборчества 33
1.5.1.1. Предварительные ремарки 33
1.5.1.2. Свидетельства ранней литературы 34
1.5.1.3. Период между IV и VIII веками по Р.Х. 35
1.5.2. Иконоборчество 36
1.5.2.1. Предварительные ремарки 36
1.5.2.2. Первый этап иконоборчества 37
1.5.2.3. Второй этап иконоборчества 39
1.5.3. Роль женщин в иконоборческом движении 40
1.6. Русская икона 41
1.6.1. Киевская Русь 41
1.6.2. Московская Русь 42
1.6.3. Иконоборческие движения и реформы 43
1.7. Заключение 44
Глава 2
Рассуждения философского
и догматического плана 46
2.1. Историческая структура 46
2.2. Материя 48
2.2.1. Предварительные ремарки 48
2.2.2. Материя и творение 48
2.2.3. Материя и грехопадение 49
2.2.4. Материя и перевоплощение 50
2.2.5. Материя и физические чувства 51
2.2.6. Материя как восхождение к Богу 52
2.2.7. Икона как восхождение к Богу 53
2.3. Несотворённые энергии 56
2.3.1. Предварительные ремарки 56
2.3.2. Каппадокийские отцы и знание Бога 56
2.3.3. Григорий Палама и знание Бога 59
2.3.4. Иконы и несотворённые энергии 62
2.3.5. Иконы и ипостатическая идентичность 65
2.4. Обожествление 68
2.4.1. Предварительные ремарки 68
2.4.2. Творение и обожествление 68
2.4.3. Грехопадение и обожествление 70
2.4.4. Перевоплощение и обожествление 71
2.4.5. Обожествление и несотворённые энергии 72
2.4.6. Обожествление и иконы 72
2.5. Концепция образа 75
2.5.1. Предварительные ремарки 75
2.5.2. Происхождение концепции образа 75
2.5.2.1. Платон 75
2.5.2.2. Филон 76
2.5.2.3. Дебаты о Христе и Троице 77
2.5.2.4. Натуральные и имитационные образы 80
2.5.2.5. Реальное присутствие 83
2.6. Традиция 85
2.6.1. Предварительные ремарки 85
2.6.2. Апостольская традиция 85
2.6.3. Методологический сдвиг 89
2.6.4. Иконы и традиция 91
2.7. Культ Девы Марии 94
2.7.1. Предварительные ремарки 94
2.7.2. Происхождение этого культа 94
2.7.3. Богословские рассуждения о культе Девы Марии 96
2.7.4. Дева Мария и иконы 99
2.8. Культ святых 101
2.8.1. Предварительные ремарки 101
2.8.2. Происхождение 102
2.8.2.1. Влияние язычества 102
2.8.2.2. Эпоха Константина 103
2.8.3. Богословские предположения 104
2.8.4. Культ святых и икона 106
2.9. Иконоборчество: богословское развитие 107
2.9.1. Предварительные ремарки 107
2.9.2. Первый этап иконоборчества 107
2.9.3. Второй этап иконоборчества 111
2.9.4. Области согласия и расхождения 112
2.10. Заключение 114
Глава 3
Библейское учение и икона 116
3.1 Ветхий Завет и Новый Завет 116
3.1.1. Предварительные ремарки 116
3.1.2. Взаимосвязь и разрыв 116
3.1.2.1. Ветхий и Новый Заветы 116
3.1.2.2. Нравственное значение ветхозаветного закона 122
3.2. Метод толкования 125
3.2.1. Предварительные ремарки 125
3.2.2. Исторический обзор 125
3.2.2.1. Греческая культура 125
3.2.2.2. Филон 126
3.2.2.3. Апостольский период 127
3.2.2.4. Патристический период 128
3.2.3. Иконы и метод толкования 130
3.3. Экзегетика Писания и иконы 133
3.3.1. Иконы и идолопоклонство 133
3.3.1.1. Этимологический аргумент 133
3.3.1.2. Экзегетика Писания 134
3.3.2. Вопрос видимости и невидимости 139
3.3.3. Теология и икономия: экзегетика 142
3.3.4. Прототип и образ:
библейское основание для почитания 145
3.3.5. Святые и экзегетика 148
3.3.6. Видение и слышание 150
3.3.6.1. Предварительные ремарки 150
3.3.6.2. Происхождение концепции о превосходстве зрения 150
3.3.6.3. Видение и слышание: экзегетика 151
3.4. Заключение 155
Глава 4
Теория и практика 157
4.1. Предварительные ремарки 157
4.2. Период до иконоборчества 157
4.3. Период иконоборчества 159
4.4. Русская православная церковь 160
4.5. Заключение 161
Глава 4
Заключение 163
Седьмой Экуменический Никейский собор 168
Библиография 170
С того момента, когда Михаил Горбачев в 1986 г, положил в Советском Союзе начало процессам гласности и перестройки, христианские церкви различных деноминаций в этой стране обрели свободу исповедовать свою веру. Появилось больше возможности получать христианское образование, проводить христианские богослужения, развивать благотворительную деятельность, которая долгое время просто запрещалась, а также организовывать евангелизационные мероприятия, в том числе и через средства массовой информации и связи. Двери государственных институтов, так долго остававшиеся закрытыми, стали теперь доступны для провозглашения христианской веры.
Моя родная церковь в Риге много раз предпринимала евангелизацию в Латвии, на Украине, о России и других республиках бывшего Советского Союза. Благая Весть провозглашалась во многих тюрьмах, в которых в прошлом содержались христиане, в концертных залах и на стадионах, просто на улицах. Часто нам приходилось сталкиваться с враждебностью, непониманием и недоверием со стороны Русской православной церкви. Не проявляя по отношению к нам открытого насилия, эта церковь, тем не менее, выражала возмущение, обвиняя нас в распространении среди русских людей «чуждой» веры. Такой протест обычно выражался через распространение клеветнических слухов, публикации в газетах статей и организацию специальных программ на Российском телевидении, направленных против протестантов. Этот тезис, таким образом, стал конечным итогом моих разочарований и боли, которые я испытал в прошлом, а также желания понять веру и традиции Русской православной церкви, которая является исторической и государственной церковью России и которая, подобно евангельским церквям в коммунистический период в Советском Союзе, также долго страдала, защищая истину Благой Вести. «Движущей силой» этого тезиса стало искреннее желание автора понять один из главных аспектов православия — иконы, оценив богословие икон. Автор, будучи протестантом, надеется выразить свое понимание икон, которые являются частью христианского наследия, но при этом также надеется не оказаться к ним предосудительным, не считать их идолами, а людей, поклоняющихся им, — идолопоклонниками.
Предлагаемая вниманию читателя книга представляет собой русский перевод опубликованной на английском языке диссертации на соискание степени магистра богословия, защищенной автором в Лондонском Библейском колледже при Брюнельском университете летом 1997 года. Автор надеется, что это исследование окажется полезным как для православных, так и для протестантов, поможет обеим сторонам понять друг друга и, быть может, приведет их к единству и взаимодействию во славу Царства Божия в этой части земного шара.
Ту благодарность, которую я хочу выразить очень многим людям, просто трудно передать словами.
Я хочу выразить признательность д-ру Грэму Макфарлейну, моему ближайшему консультанту, за все его комментарии и поправки к грамматическим и пасторским нюансам этого труда.
Особые слова благодарности я хочу адресовать Лэингу и Дэвиду Брэдли, которые лично помогали мне, предоставляя всю необходимую информацию, а также церкви Христа в Орпингтоне, благодаря финансовой поддержке, гостеприимству и участию которой я смог завершить свои исследования.
С большой радостью выражаю свою признательность сотрудникам Лондонского Библейского колледжа, в первую очередь библиотекарям, за их поддержку и существенную помощь в предоставлении мне литературы, необходимой для моих исследований, а также моим дорогим друзьям Вокеру Рэбинсу, Кору Беннема, Маркусу вон Оусену и Эстер Дамиао за их дружбу, молитвы и поддержку в течение всего этого года. Огромное им за это спасибо.
Я признателен также Кирилу и Норин Эверардам, которые любезно согласились откорректировать мой текст, прежде чем окончательно отдать его в печать.
И наконец, но не в последнюю очередь, я с большой радостью выражаю свою благодарность, любовь и признательность моим «английским маме и папе», Грейс и Филу Симмонсам, чей дом был для меня местом отдыха, утешения и поддержки в течение всего периода моих исследований. Их любовь, поддержка и общение удивительным образом помогали мне все это время.
ARH Archive for Reformation History
ARI Ancient Russian Icon
BA Biblical Archeologist
CH Church History
EHR English Historical Review
DOP Dumbarton Oaks Papers
EHR Edinburg Review
HR History of Religion
JEH Journal of Ecclesiastical History
JRS Journal of Religious Studies
JTS Journal of Theological Studies
ПБ Православная беседа
SJT Scottish Journal of Theology
SVTQ St. Vladimir's Theological Quartely
ТВ Tyndale Bulletin
VE Vox Evangelica
Икона является неотъемлемой частью традиции православной церкви — традиции, которая временами переживала сильное противодействие и преследования за попытки защитить икону и ее место в православной церкви. Икона находится «внутри» православной церкви, и ею пользуются в течение литургии во время официального церковного богослужения, а также и в молитвах частного порядка. Она используется как видимое средство общения верующего человека с Богом в процессе молитвы или молчаливого размышления, а также признана православной церковью в качестве канала божественной благодати.
Однако существование икон в христианской церкви и все связанные с ними элементы богослужения и поклонения в течение многих веков и вплоть до нынешнего времени вызывали сопротивление со стороны определенных церковных руководителей и богословов в самой православной церкви и за ее пределами. Многие считали и считают до сих пор, что иконы тесно связаны с язычеством и идолопоклонством, поскольку все это противоречит второй заповеди Ветхого Завета.
Так что же такое икона? Возможно ли, чтобы икона стала objecta quibus — неким «представителем», связывающим нечто исторически реальное с истиной? Может ли ее существование быть оправданным и свободным от обвинений в идолопоклонстве и ассоциаций с язычеством? Какова ценность этого материального средства христианского богослужения, и может ли икона использоваться в поклонении Богу?
Приведенный ниже тезис, разделенный на четыре части, посвящен этим вопросам, имеющим отношение к иконам.
Первая глава посвящена исследованию исторического развития иконы и охватывает период расцвета Древней Греции, ее культуры, искусства и религиозных служений, которые в свою очередь отразились в египетской.
греческой, римской, византийской и русской культурах. Эта глава в первую очередь говорит о продолжении различных верований, концепций и исповеданий, а также прослеживает эволюцию этих концепций и то, каким образом они связаны с иконами.
Вторая глава освещает философские и догматические вопросы, которые подчеркивают богословие икон в том виде, в каком они связаны с церковной догмой. В этой главе мы начнем с исследования греческих философских идей, которые были восприняты христианством и сыграли важную роль в формировании богословия икон. Дальше разговор пойдет об оценке материи — ее ценности и отношению к православному учению о творении, грехопадении, перевоплощении, о вопросах обожествления и несотворенных энергий, а также о концепциях образа, значимости традиции, культе Девы Марии и культе святых. Глава завершится оценкой развития богословия икон через призму иконоборчества.
Третья глава исследует отношение православной церкви к Писанию и его применение к богословию икон. Она сконцентрирует свое внимание на взаимоотношении между Ветхим и Новым Заветами, значении Ветхозаветного закона во свете современной герменевтики и сравнивает его с православным методом интерпретации Писания и применения его в богословии икон.
Последняя глава посвящена историческим свидетельствам различных периодов истории православия и сравнению теории и практики всего того, что связано с иконами и культами, которые следуют из богословия икон.
В заключении представлен богословский взгляд на икону и предложен путь к пониманию иконы и восприятию ее в рамках православного богослужения и других традиций.
Глава 1
Происхождение и историческое
развитие иконы
О богословии икон невозможно говорить, не рассмотрев религиозный и культурный контекст средиземноморского мира египетской, греческой и римской культур, и в особенности их верований и исповеданий до прихода христианства. Традиция использования образов возникла задолго до появления христианства и «имеет корни в язычестве»[2]. Только сопоставив иконы и культуру древнего мира мы сможем правдиво оценить богословие иконы и ее культа. Таким образом, в силу исторических причин развитие иконы невозможно рассматривать, не обратившись к источникам, свидетельствующим о египетской и греко-римской жизни и верованиях, черты которых сохранились к моменту появления христианства[3].
Kondakov[4] считает «истинной родиной» иконы Греческий Восток. Именно там, среди панельных портретов мучеников[5] и исповедников, которые были нарисованы восковыми красками и помещены на гробы и саркофаги умерших мучеников, родился «прототип» иконы[6]. К портрету, или иконе, мученика относились с большим почитанием, придав им со временем статус священных. В результате того, что к таким портретам в течение веков стали относиться с особым благоговением, у людей появилась возможность хранить память об умерших среди живых.
Такая традиция на самом деле берет свои корни из египетских обычаев, в соответствии с которыми родственники умершего клали портреты[7] мертвецов на их мумии, и маски умерших считались «проявлением умершего»[8]. Так поступали в течение практически всей истории Древнего Египта[9], и это было тесно связано с их системой верований в жизнь после смерти[10], согласно которой смерть становится «хозяином» жизни, «правящим большей частью их поступков на земле»[11]. Египтяне хоронили умерших вместе со всем тем, что окружало этих людей при их земной жизни. Такая практика основывалась на их вере в то, что души, как правило, покидают тело после смерти и по-прежнему продолжают существовать в «нижнем мире», но остаются зависимы от земного окружения.
Поскольку душа продолжала существовать, тело необходимо было бальзамировать, чтобы сохранить для души ее обитель — могилу, а также чтобы достичь вечной жизни. Morenz[12] утверждает, что движущей силой этой системы была идея «живого трупа» — основа культа умерших. Мумификация рассматривалась в качестве средства преодоления смерти и продолжения существования в ином мире. Могила выполняла роль вечного дома для умершего, к которому родственники могли приходить в особые «праздники долины»[13], чтобы праздновать их вместе с умершими, чтобы приносить пожертвования, молиться за души умерших, чтобы «сделать хорошим этот мир и вход в небесную обитель»[14]. Мертвецу давали также его «двойника» — портрет, и его ка[15], жизненную силу внутри его тела, которая привносила в него ба, живую божественную субстанцию, посредством церемонии «открывания уст» с целью «сделать все органы способными работать и оживить образ»[16].
1.2.1. Египетское христианство
В более поздний период, ближе к появлению христианства, портрет умершего стал ассоциироваться с его ко и рассматривался в качестве «связи между душой умершего и его телом, сохраненным в виде мумии»[17]. Считалось, что образ мумии обладал мистической силой влиять на события до такой степени, что даже «писали письма в адрес мертвых, прося их помочь в каких-либо трудностях»[18]. Несмотря на появление в Египте христианства в I веке по Р. X., египтяне продолжали следовать древним обычаям погребения умерших, который был «естественным образом воспринят» христианами в Александрии и других частях Египта[19]. В результате христианские идеи смешались с «языческой амальгамой», состоявшей из египетских, греческих, иудейских, восточных и римских традиций и верований, которым люди следовали в такой же степени, как и христианскому учению[20].
Bowman[21] отмечает, что различные элементы язычества, которые берут свои корни в греческой и египетской мифологии, сохранились в коптском христианстве. Различные языческие образы и сценки отражались в искусстве наряду с «изображениями святых, Девы Марии и Иисуса, христианских притч и декоративных элементов, которые были характерны для предшественников как в Греции, так и в Египте»[22]. Языческие элементы в форме различных «магических заклинаний» были популярны также среди христиан и сохранились вплоть до средних веков[23].
Концепция существования мумии после смерти в «нижнем мире» обнаруживается и в христианстве. Morenz[24] подчеркивает, что мумификация «практиковалась и среди монахов во времена христианства», хотя «не так активно и с применением иных методов». Традиция положения даров и других «необходимых» предметов в захоронение вместе с умершим, которая практиковалась среди древних египтян, оставалась популярной и в христианских коптских обрядах, а затем перешла и в последующие христианские поколения[25]. Таким образом, становится очевидным, что «использование материальных средств могло привести и привело к идолопоклонству» среди мирян в Египте, а это, в свою очередь, возымело последствия для всего христианства в эллинистическом мире[26].
1.3.1. Предварительные ремарки
Рассмотрев египетские погребальные традиции, связанные с их взглядами на образы, рассмотрим теперь греко-римские религии и некоторые обряды, которые в период эллинизации (332 — 330 гг. до Р. X.)[27] смешались с египетскими обрядами захоронения. Этот период характеризуется усилением влияния греческой религии на египетские верования и vice versa[28]. Римские императоры (30 г. до Р. X. — 395 г. по Р.Х.) переняли и по-своему развили культ египетских поклонений, сохранив при этом и черты своих собственных верований[29].
1.3.2. Греческая религия
Греческая религия состояла из самых разных традиций[30], которые основывались главным образом различными поэтами, начиная с Гомера[31], создавшего формы, в которых великие боги жили в полном соответствии с сознанием греческого народа и его искусством[32]. Эти формы, или образы, которые приняли облик статуй, были известны как хоапа, и люди верили, что в них «вселялась божественная сила», которая была не сотворена руками, но «снизошла на них с небес»[33]. Во время особых праздников люди брали эти культовые образы и торжественно проносили их вокруг города, после чего проводили ритуальные мероприятия и богослужения, во время которых, как люди верили, образы обретали особую силу. Затем приносились жертвы каждому божеству по отдельности[34]. Греки считали, что эти образы являлись непосредственными божествами, хотя со времен Гераклита греческие философы предпринимали попытки провести различие между божествами и их образами[35].
Таким образом, главной особенностью греческой религии была вера в антропоморфную природу богов. Считалось, что греческие боги не просто являются духовной силой, к которой можно обратиться только посредством молитвы и созерцания, но и обладают внешним видом и качествами человека, будучи при этом выше человека в силу своего божественного происхождения. Антропоморфические особенности богов описывались таким образом, что их поступки и мотивы мог толковать и понимать человек, который пытался обрести гармонию между самим собой и окружающим его миром[36]. Однако такая концепция была «гармонией только для воображения, но не для сознания», и это привело в конечном счете к падению греческой религии, как только она столкнулась с «внутренней эволюцией своего собственного сознания» и интеллекта с приходом Платона и Аристотеля[37].
Как и египтяне, греки делали главный акцент на увековечивание памяти о делах умерших между живыми и поэтому надеялись хранить память об умерших через иконографию, воздавая им таким образом честь и уважение. В честь умерших устраивались специальные торжества с возлияниями и жертвоприношениями. Считалось, что умершие по-прежнему принимают участие в жизни живых людей, поэтому для того, чтобы обрести в чем-либо удачу, к умершим обращались с определенным прошением. Как в Египте, так и в Греции, почитание умерших, которое всегда проходило возле мест захоронения, со всеми его ритуалами и обычаями, сохранялось вплоть до появления христианства.
Другой важной особенностью греческой жизни, нашедшей свое прямое продолжение в культе поклонения святым, был культ героев[38]. Этот культ рассматривался как «выражение групповой солидарности», но отличался от культов умерших и богов в зависимости от географического расположения и особенностей той или иной группы, клана, семьи[39]. Люди верили, что эти мифические личности обладают силой, способной защитить их и помочь в бою. И чтобы добиться расположения к себе со стороны того или иного героя и обрести его силу, в определенный день, раз в году, устраивались особые празднества с приношением еды и кровными жертвоприношениями[40].
Для греков искусство было выражением их национальной религии, способом выразить свои мысли и понимание мира и самих себя через видимые средства[41]. Оно занимало центральное место «их структуры жизни»[42].
Во-первых, оно выражало их антропоморфический взгляд на богов. Оно было средством установления контакта и взаимоотношений между смертным и бессмертным, человеческим и божественным, вышестоящим и нижестоящим. Образы богов «являлись центром религиозного сознания» и их божественных качеств, которые простые люди должны были обретать и имитировать[43]. Материальные образы представляли духовные реалии и таким образом выполняли некое дидактическое предназначение.
Во-вторых, греческое искусство, описывая человеческие представления и характер, имело эстетическое и нравственное значение. В представлении греков «добром было все то, что красиво» и vice versa[44]. Красота искусства выражалась не только в физическом, но и в моральном смысле, могла затронуть душу и сообщить ей «благодать», что являлось ее нравственным превосходством. За слиянием эстетических и этических точек зрения последовало «слияние представлений о добром и хорошем», что и стало центральным моментом греческой концепции искусства[45]. Таким образом, окончательная цель искусства состояла в том, чтобы обожествлять и изменять человека, а также открывать его внутреннюю красоту посредством внешней красоты[46].
Римская религия, носящая политеистический и синкретический характер, по мере роста империи соединила в себе много различных культов и традиций Древнего Ближнего Востока. Одной из особенностей религии Римской империи был культ императора. Поклонение правителю имеет восточные корни[47], которые исходят в первую очередь из Египта. Культ поклонения правителю был воспринят Александром Македонским и адаптирован им для поклонения себе — практика, которая была также используема его последователями[48]. Важную роль в развитии этого культа сыграл греческий культ героя и стоическая идея о превосходстве мудрого человека, что привело к возникновению культа эллинистического царственного сана[49]. Когда римские правители пришли на смену греческим, они естественным образом переняли и восприняли религиозное поклонение своему императору[50].
Второе дыхание поклонение императору обрело в правление Августа. Этому императору присвоили божественные атрибуты и звание Divus Julius, я после смерти в 42 г. до Р. X. он был поставлен на один уровень с другими богами, которым поклонялись римляне[51]. Граждане империи должны были приносить жертвы «гению» императора и его eikon[52] как в общественных местах, так и у себя дома, «ибо в нем проявлялось все божественное»[53]. Его божественная роль сопровождалась теми реалиями, которые ассоциировались с «правителем эллинистической философии»[54]. Граждане империи должны были оказывать свою лояльность, поклоняясь и воздавая почести (πρoδκύυηδιν) портрету или статуе императора, признавая его верховную божественную власть в повседневной жизни. Римляне верили, что, когда они боготворят статую, прототип этой статуи также прославляется — древнее верование греко-римского общества, которое касалось боготворения статуй[55]. Эти образы также носили в процессиях во время больших празднований и совершали в честь божественного правителя жертвоприношения[56]. Его портреты устанавливались на самых почетных общественных местах, рынках, судах, окружались горящими свечами и признавались «священными личностями отсутствующего императора»[57]. Граждане империи стремились обрести ad status confugere — юридическую защиту закона империи — перед портретом императора[58]. Становится очевидным, что образ императора со всеми соответствующими верованиями и традициями «существенно повлиял на рост поклонения христианским иконам и реликвиям» так как создавал прецедент для почитания материальных предметов в сознании человека и подготавливая почву для христианской иконы[59].
1.4. Ранняя христианская церковь и ее искусство
1.4.1. Период до правления Константина
1.4.1.1. Предварительные ремарки
Вопрос о происхождении христианского искусства очень сложен и во многом неясен. Это искусство зародилось в недрах греко-римского искусства, иудейских иконофобских взглядов по отношению к образам, а также от христианской субкультуры, на развитие которой оказал влияние гностицизм[60]. Поэтому христианское искусство имеет смысл оценивать в контексте археологических и социо-политических факторов, свидетельствующих об этой эпохе.
1.4.1.2. Археологические и социологические свидетельства
Раннее христианство, особенно в ранний период своего существования, принято считать иудейским христианством[61]. В этом виде оно вобрало в себя значительное тело верований и традиций иудаизма. В результате того христианство унаследовало ветхозаветный запрет образы[62] и стало в корне «иконофобским в теории и иконоборческим на практике»[63]. Археологические данные наводят на мысль о том, что до конца II века по Р. X, христианского искусства как такового не существовало[64].
Тем не менее, в период со времен апостолов и до третьего века, под давлением иудаизма, с одной стороны, и язычества — с другой, христианство вынуждено было определять свой характер и отличительные особенности[65]. От примитивных христианских символов, находившихся в домашних церквах у иудейских христиан, до более сложных произведений искусства кладбищ и катакомб греческих и египетских христиан развитие шло медленно. Иудейские христиане считали, что эти символы обладают почти сакраментальной силой кристаллизировать веру и способствуют ощущению присутствия Божия со стороны, а среди греческих и египетских христиан эти символы рассматривались как выражение примитивных веровании относительно смерти и воскресения[66].
О процессе развития такого христианского искусства можно говорить как об ассимиляции, и как о дифференциации[67]. С одной стороны, оно проходило в тесной связи с эллинистическими концепциями образов как символов невидимых реалий, а с другой — включало в себя ни на что не похожие особенности христианства. Кроме того, оно было неотъемлемо от особенностей той общественной среды, в которой оказались первые христиане.
Будучи ограниченными своей социальной средой, христиане стали использовать хотя и не всегда очень разборчиво, символы в качестве средства, позволяющего донести до людей их веру[68]. Христианские мастера искусства взяли на вооружение синкретический метод и стали использовать языческие символы в новом контексте, хотя и не «очистив» их полностью от языческого влияния[69]. Таким образом, целью искусства было философское и художественное выражение греко-римского мира, носящее дидактический характер[70].
Snyder[71] отмечает, что христианское искусство явилось результатом «социальной матрицы» общества. Археологические данные показывают, что вначале отсутствовали такие символы, которые показывали страдания — крест, распятие, смерть Христа. Наоборот, ударение делалось на освобождение, мир и воскресение — темы, которые были уместны для преследований первых трех столетий по Р. X.[72] Темы страданий и скорби Христа стали появляться в искусстве только начиная с IV века по Р. X.[73], когда крест стал символом величия империи[74]. Интересно, что иконография о Христе претерпела такую же эволюцию. Среди первых христиан Христос рассматривался как молодой чудотворец и странствующий философ — этот образ позднее сменился образом победоносного Христа, Христа как Царя, что стало результатом политической победы христианства[75]. Перемены в социальном окружении привели к исчезновению определенных образов; они утратили свою ценность и значимость в определенной социальной среде[76].
Более того, искусство кладбищ и катакомб представляет из себя довольно запутанную картину. С одной стороны, христианские сцены причастия, крещения и других библейских тем, смешанные с греко-римскими символами, указывают на появление христианского искусства. С другой стороны, религиозные верования и убеждения, ассоциируемые с катакомбами, в особенности культ мертвых, не были полностью очищены от языческих концепций и в целом неясно отличались от языческих традиций греко-римской и египетской религий[77]. Архитектура первых христиан использовала языческие формы и строения, например, мавзолеи, которые предназначались для языческих героев, только использовала их для мучеников веры, что привело к практике поминовения мучеников христианской веры, смешанной с элементами, схожими с языческими[78].
Таким образом, сложность развития христианского искусства, которое было неразрывно связано с языческими верованиями и традициями среди народа, судя по всему, попала под влияние религии, которую исповедовало большинство, что сыграло большую роль для последующих столетий.
1.4.2. Период правления Константина
и последующий за ним период
1.4.2.1. Социо-политическив свидетельства
Приход к власти Константина и его правление (306 — 338 гг. по Р. X.) придали развитию христианского искусства новый толчок. Христианская империя при его правлении обрела все атрибуты мощи и процветания Римской империи. Константин превратил империю в централизованную автократию — «автократию, которая постепенно соединила старый римский общественный порядок и новый византийский»[79]. Император, который продолжал исповедовать культ солнца[80], счел себя имеющим право стать правителем мира, обосновав это христианским монотеистическим постулатом и, взяв на вооружение общественные и духовные силы христианства, назвал себя «Божьим представителем на земле» со всеми вытекающими отсюда почестями и регалиями, которыми до этого обладал римский император[81]. Кроме того, после Никейского собора (325 г. по Р. X.) он присвоил себе исключительное право осуществлять единоличную власть над церковью, т.е. иметь такую власть, которую до него имели христианские епископы[82]. Христианские епископы обрели тот статус, который языческие священнослужители имели до них в своих храмах и в обществе, а также получили поддержку империи, которая выражалась также и в финансовом патронаже церковного искусства и других дел[83]. Христианство вступило в новую фазу своего развития. Вместо преследуемого общества, которое выражало свое искусство на кладбищах, в катакомбах, которое собиралось в домашних церквах, оно теперь стало имперским христианством — властвующей религией «Христианской империи»[84] с «двумя иерархическими властями — церковью и властью империи» в общественной жизни[85].
Интересно отметить, что по мере того, как христианство обретало все больше власти и влияния в гражданской сфере, оно слабело в церковной дисциплине и нравственной жизни[86] — «опасность была уже не в том, что оно было врагом этому миру, а в том, что оно становилось его другом»[87]. В 324 г. по Р. X. в качестве христианского города был основан город Константинополь, который стал столицей империи — вторым Римом, возросшим в греко-эллинистической культуре с ее языком, пришедшим в течение V — VI веков на смену латинскому. Это привело к дальнейшему усилению влияния классической греческой философии и искусства на умы отцов церкви и христианских деятелей искусства[88].
1.4.2.2. Археологические свидетельства
Археологические данные наводят на мысль о том, что ассимиляция и дифференциация в христианском искусстве по отношению к искусству языческому продолжались[89]. Тем не менее, после прихода Константина к власти римская имперская иконография была приспособлена к нуждам имперского двора и официальной политики государства. Символы языческой империи были заменены на христианские, при этом ударение делалось на темы славы и победы. Мастера искусства в поисках вдохновения для своего художественного выражения теперь обращались к «Библии, апокрифам и легендам о святых»[90]. Образы Христа претерпели трансформацию от представления о Нем как о юноше к представлению о Нем как о Господе мира и основателе церкви, или как об императоре со всеми вытекающими отсюда величием и властью[91]. Эти образы рисовали с определенных образцов, таких, как «ахейропойтон», т.е. нерукотворных картин, которые, как гласит легенда, сам Христос прислал царю Авгарю Эдесскому[92].
Культ образов осуществлялся посредством епископов, которые культивировали образы Христа[93], получившие те же славу и честь, что и портреты «басилевса» — императора[94]. Культ имперского образа, а также поклонение ему были восприняты христианами и естественным образом перешли в иконы Христа, которые, как потом было принято считать, являлись образами Царя Небесного и первоначально были нерукотворными[95].
Концепция божественного образа была не развитием библейской мысли, а, скорее, явилась продолжением «языка визуального искусства и техники, которые были общепринятыми в Римской империи»[96]. Христианские художники повсеместно заимствовали технику и особенности, которые в то время были доступны и представляли «чистое» выражение божественного. По мере массового обращения бывших язычников в христианскую веру в IV веке по Р. X. и в последующих веках появилась дидактическая необходимость просвещать неграмотных с помощью визуальных средств. Самая великая нужда людей — каким образом божественный мир открывается людям — удовлетворялась через поклонение образам и реликвиям. Такая традиция явилась результатом убеждений в том, что некоторые образы и реликвии «могут обладать божественной силой и что эта сила может проявиться через физический контакт со священным предметом или реликвией[97]. Именно такие убеждения были распространены среди «греков и эллинизированных семитов в восточной части Средиземноморья», и, «будучи тесно связанными с языческим прошлым», они претерпели изменение через неоплатонизм», который стал философской основой для таких убеждений[98].
Более того, считалось, что отшельники, которые жили все время в уединении, в пустынных местах, находятся ближе к Богу и обладают особой силой, позволяющей им даже прикасаться к Нему. Со временем возник обычай давать пилигримам глиняные таблички с изображениями таких людей; считалось, что эти предметы являются средством передачи божественной благодати, поскольку сами эти образа, как люди были убеждены, обладают божественной силой[99]. Считалось также, что останки некоторых святых людей обладают божественной силой, что привело в конце концов к отдельному культу мощей, сопровождаемому многочисленными ритуалами и празднованиями, посвященными каждому святому[100]. Все эти факторы сыграли заметную роль в развитии и принятии в церкви икон в качестве священных образов в период начиная с IV века по Р. X. до такой степени, что иконы заняли центральное место в литургии и жизни верующих людей Восточной церкви как в период правления Юстиниана, так и после этого правления (550 — 650 гг. по Р. X.)[101].
«Они, таким образом, вошли в церковь «снизу», в процессе широкого «оязычивания» христианства. Новообращенных IV века по Р. X. и последующих веков уже не удовлетворяло одно лишь слышание Слова Божия и поклонение в духе и истине — они еще хотели видеть все то, чему они поклоняются.»[102]
Искусство ранней церкви было неотделимо от христианства и прошло в своем развитии несколько стадий, так или иначе связанных с социальными и политическими переменами Римской империи[103]. Византийская империя не возникла de novo, а стала продолжением греко-римской культуры, в которой «языческое наследие соединилось с христианской традицией», что отразилось на всех сторонах общественной жизни, в том числе и искусстве, и породило со стороны некоторых отцов церкви яростное сопротивление образам[104].
1.5.1. Период до иконоборчества[106]
1.5.1.1. Предварительные ремарки
Иконоборческое движение в период после правления Константина и до иконоборчества VIII — IX веков по Р. X. можно рассматривать как непрерывную борьбу внутри церкви против «проязычества» и «варваризации целого образа жизни»[107], и оно тесно связано с «неиконной фазой раннего христианства»[108]. Это движение следует считать движением внутри церкви, а не тем, которое инспирировано внешними силами[109], — движением, которое существовало с самых первых лет христианства[110].
1.5.1.2. Свидетельства ранней литературы
Kitzinger[111] выделяет три основные причины, которые послужили возникновению иконоборчества: практика вероисповедания, оппозиция и апологетическая теория. Именно практическое вероисповедание сыграло главную роль в развитии христианского искусства. Языческая традиция создавать образы и поклоняться им была поглощена христианством и привела к появлению оппозиции, которая закончилась возникновением «утверждений теоретического характера, защищающих веру»[112].
Ранние апологеты христианства в его самом первоначальном виде выступали в своих литературных трудах против тех практических сторон поклонения и богослужения, которые имели место среди людей, а также против нападок, которые в адрес христианства доносились со стороны язычников[113].
Однако самыми первыми авторами, которые в своих трудах выступали против культа образов, были вовсе не христиане, а их языческие предшественники. Греческие философы и мыслители древности, начиная с Гераклита, Платона и Плотина[114], уже подвергали критике народную религию и в первую очередь культ образов[115]. Они выступали за ноэтику — духовное поклонение богам посредством стоицизма или неоплатонизма[116]. Эти идеи, однако, были обречены на неудачу, остались лишь в умах интеллектуалов и не смогли одолеть силу народной религий[117]. Полемика, которая позднее возникла между сторонниками язычества и христианами, и в которой последние упрекали оппонентов в идолопоклонстве, а первые защищали свои убеждения, показала, что по крайней мере со II века по Р. X. «просвещенное» язычество рассматривало культовые статуи в качестве eikon — икон богов, но не как самих богов[118].
Апологеты раннего христианства в свою очередь использовали аргументы этих язычников, когда находились под давлением языческих гонителей в течение последующих веков. Ориген, Клемент Александрийский и Тертуллиан[119] были в числе первых, кто критиковал культ статуй наряду с теми запретами, которые изложены в Ветхом Завете[120]. За этим последовал экуменический собор в Эльвире в начале IV века по Р. X., который, исходя как из уже существовавших к тому времени христианских традиций, так и запретов Ветхого Завета, запретил любое представление чего-либо божественного в материальной форме[121].
1.5.1.3. Период между IV и VIII веками по Р.Х.
Во второй половине IV века по Р. X. люди стали по-иному смотреть на образы, стали принимать их в качестве вспомогательного инструмента просвещения в первую очередь неграмотных людей[122]. Последующие века отмечены ростом поклонения образам и тех традиций, которые с этим поклонением связаны и которые в свою очередь породили несистематическое и неорганизованное сопротивление в различных районах империи[123]. Законность такого поклонения образам ставили под сомнение Епифаний Саламисский и Евсевий[124]. Это почитание образов напоминало языческие прецеденты[125] и было похоже на почитание, которое уже существовало в языческом мире[126].
Важность и роль образов резко возросли в течение V — VI веков по Р. X., а в VII веке они уже занимали центральное место как в личной, так и в общественной жизни[127]. По своим функциям иконы превратились из «простых средств напоминания» в самих по себе посредников и стали центром литургии, а также церковной и общественной жизни Византийской империи. Доктринальная основа иконы была подтверждена на экуменическом соборе в Константинополе в 692 г. по Р. X., который подчеркнул доктрину перевоплощения, утвердив рождение образов Христа в антропоморфических терминах[128].
1.5.2.1. Предварительные ремарки
В свете этих событий, которые произошли в течение веков, предшествующих иконоборчеству, вполне естественно напрашивается мысль о том, что само это движение VIII — IX веков по Р. X. стало взрывом определенных незаметных движений и богословских традиций внутри христианства[129], направленных против злоупотребления идолопоклонством, ставшим неотъемлемой частью культа икон[130]. Кроме того, следует обратить внимание и на политическую[131] ситуацию этого периода, и на деятельность некоторых императоров-иконоборцев, когда «военные кампании и иконоборческое богословие стали неразрывными»[132].
Иконоборчество, которое длилось 120 лет, можно разделить на два периода. Первый период начался в 726 г., когда Леон III начал бороться против икон, а закончился в 780 г. по Р. X. при императрице Ирине, которая смогла приостановить эту борьбу. Второй период начался при Леоне V в 815 г. по Р. X. и продолжался до 843 г, по Р. X., когда императрица Феодора положила этой борьбе конец.
1.5.2.2. Первый этап иконоборчества
1.5.2.2.1. Лев 111 и Константин V.
Во время правления Льва III (717 — 741 гг. по Р.Х.) разрозненное иконоборческое движение обрело второе дыхание. Те движения и течения, которые носили скрытый и ненасильственный характер, теперь превратились в политику империи, хотя иконоборцы в целом так и не объединились в единую силу и не смогли представить единую стратегию[133]. Первым иконоборческим актом Льва III было снятие иконы с изображением Христа с ворот дворца. За ним последовал государственный совет, silention, который постановил уничтожить иконы и священные реликвии, а также еще раз подтвердил власть императора над церковью. Результатом этого совета стали также всеобщие гонения против тех, кто проповедовал поклонение образам, в первую очередь против монахов, которые делали иконы, а также против самых рьяных их защитников[134]. Посредством такой своей политики Лев боролся более против идолопоклонства, нежели против тех концепций, которые лежали в основе поклонения образам[135]. И только его сын, Константин V, который унаследовал от отца трон, дал богословское обоснование иконоборческим реформам.
Константин V (741 — 775 гг. по Р. X.) усилил эту борьбу как на практике, так и в теории. Иконоборцы не просто действовали, но и развивали все более научные богословские подходы, принимая во внимание христологические аспекты борьбы. Константин V стал инициатором полемики на христологические темы и «представил Христа как Личность, Которую невозможно изображать на иконах»[136]. Б своих желаниях более эффективно проводить иконоборческие действия он зашел еще дальше, добившись поддержки синода на Иерийском соборе (754 г. по Р. X.) - Этот собор осудил иконы и приравнял поклонение им к идолопоклонству[137], что повлекло за собой новые преследования, которые ближе к концу жизни Константина в первую очередь были направлены против монахов[138].
1.5.2.2.2. Лев IV Хазарский (775 - 780 гг. по Р. X.).
Сын Константина V, который пришел к власти после смерти отца, продолжал реформы своих предшественников. Однако эти реформы проводились другими формами и методами. Этот период можно назвать «переходным» от жестокой иконоборческой политики его предшественников к «восстановлению икон при Ирине»[139]. Вполне очевидно также, что в этот период усиливалось влияние Ирины, а политика иконоборчества вступила в стадию
упадка[140].
1.5.2.2.3. Императрица Ирина (780 — 802 гг. по Р.Х.).
Хотя в это время существовал император — Константин VI, именно Ирина была единоличной императрицей Византии. Ее активное участие в иконоборческой борьбе свидетельствует о том, что роль женщин в победе над политикой иконоборчества в первый период была существенной[141].
Ирина, которая в результате жестоких действий[142] стала императрицей, для восстановления поклонения образам прибегала к манипулятивной имперской политике[143]. Она удалила из войск значительное количество сторонников иконоборчества[144], окружив себя сторонниками поклонения иконам как в церкви, так и в войсках. Эта реформа нашла свое развитие после ее одобрения Никейским собором (787 г. по Р.X.). Никейский собор отменил решения Иерийского собора 754 г. и восстановил поклонение иконам. Реформы и правление Ирины оказались, однако, недолговечными и неэффективными, как и восстановление почитания икон, которое было достигнуто ценой дипломатических неудач и военных поражений, что в конце концов и привело к началу второго периода иконоборчества[145].
1.5.2.3. Второй этап иконоборчества
1.5.2.3.1. Лев V Армянский (813 - 820 гг.).
Правление Льва V ознаменовалось возрождением политики иконоборчества Льва III. Патриарх Никифор, сторонник почитания икон, был смещен на Соборе 815 г. по Р. X., а сам Собор отменил решения Собора 787 г. и восстановил положения Собора 754 г., хотя и в более умеренных и видоизмененных формах[146]. Новая политика была направлена прежде всего против культа икон, против поклонения им, а не против существования изображений, что и обусловило умеренный характер преследований против монахов. Более того, кампания этого периода (815 — 842 гг. по Р.Х.) оказалась не такой жестокой, как при Льве III и Константине V, а после Льва V к власти пришел Михаил II (820 — 829 гг.), который в отношении икон придерживался нейтралитета[147].
1.5.2.3.2. Феофил (829 — 842 гг. по Р.Х.).
Феофил снова возобновил политику иконоборчества, которая при нем проходила так же умеренно, как во время второго этапа иконоборчества, хотя и более решительно, чем при его отце[148]. Движущей силой такой политики был патриарх Иоанн[149], который организовал третий иконоборческий собор в Блахерне, оставшийся, однако, без последствий[150]. Император, чья жена поклонялась иконам, в отличие от своих предшественников не был рьяным сторонником иконоборческой политики. Это постепенно привело к победе православия, когда после смерти Феофила его вдова, Феодора, стала императрицей и, как и Ирина, восстановила почитание икон.
1.5.3. Роль женщин в иконоборческом движении
Если помнить о том, что победы над иконоборчеством имели место в правление императриц Ирины и Феодоры, то нельзя недооценивать роль женщин в этот период.
Herrin[151] считает, что культ икон имел для женщин особое значение. Их социальное положение[152] и вопросы, связанные со здоровьем[153], а также невозможность играть важную роль в жизни церкви[154], вероятно, сыграли свою роль в том, что они стали больше внимания уделять иконам. Это и привело к тому, что в периоды иконоборчества они защищали иконы. Наилучшими примерами здесь служат императрицы Ирина и Феодора, которые много сделали для восстановления культа икон[155]. Тогда будет вполне естественным предположить, что победа православия в этот период истории была более обусловлена имперской политикой и личными факторами, чем победой здравой доктрины[156].
1.6.1. Киевская Русь
Византийское искусство нашло свое продолжение в Киевской Руси, которая в 988 г. по Р. X. приняла христианство[157]. Русские переняли «без всяких проблем» византийский тип христианства с его уже устоявшимися канонами и догмами, а также со «сформировавшейся доктриной икон»[158], которая выражалась в «музыке, иконографии и аскетизме»[159]. Христианство в этот период истории оставалось «сферой интеллектуальной элиты»[160] и еще не проникло в другие социальные группы, которые продолжали поклоняться идолам, — такая «двойная вера» под «покровом христианства» продолжалась до XIV — XV веков по Р. X.[161]. Богословские труды этого периода создавались для того, чтобы подтвердить истинность византийского примера, но не для того, чтобы создать и развить что-либо соответствующее русскому сознанию и душе[162]. В результате в эти годы не было ни одного русского богословского труда[163]. Выражением русского религиозного опыта стали не богословские труды, а иконы, а главной движущей силой был «духовный praxis»[164]. Главным фактором принятия иконы на Руси стала не столько «рациональная форма» христианского богословия, сколько «эстетический подход»[165]. Моделью всему этому служили византийские техника, стиль и содержание, и в самом начале было простое копирование византийской иконографии. Художественный язык, полностью соответствующий русской ментальности[166], сложился только к началу XIV века по Р. X. в новгородской школе иконописи[167].
В связи с этим интересно отметить тот факт, что икона никогда не выполняла функцию наставничества и рассматривалась в качестве отдельной богословской сущности в рамках христианской веры[168].
Татарское вторжение (1237 — 1240 гг. по Р. X.) положило конец существованию Киевской Руси. Постепенно религиозным центром Руси стала Москва (1325 г. по Р. X.)[169], где произошло дальнейшее развитие иконописи, достигшей в XV веке своего расцвета[170]. В течение XIV и последующих веков византийские традиции претерпели на Руси существенные перемены, и им на смену пришел оригинальный русский стиль, который нашел свое отражение в нескольких школах иконописи[171]. Иконы этого периода несли некое доктринальное содержание, когда богословские идеи отражались в структуре изображения.
Художественное развитие иконы претерпело дополнительные изменения в XVI веке[172], что было связано с геополитическими переменами в христианском мире[173]. Россия стала больше обращать внимания на западную культуру и влияние. Этот процесс достиг своего пика во время правления Петра I, в XVIII веке по Р. X., и здесь произошел окончательный разрыв с византийскими традициями. В результате икона стала «картинкой с религиозным содержанием», а не олицетворением доктрины, как в предыдущие века[174].
1.6.3. Иконоборческие движения и реформы
Принятию иконы на русской земле не был уготован легкий путь. В течение веков ей сопротивлялись самые разные движения и секты. Первое такое движение — стригольники — появилось в середине XIV века по Р. X, на северо-западе Руси. Оно характеризовалось критическим рационализмом и было направлено против иерархии в православной церкви, ее догм, таинств и поклонения иконам — его неправильного использования среди простого люда, а также против безнравственности, царившей среди служителей и монахов[175]. В XV и последующих веках по Р. X. появилось движение иудаистов и других свободных мыслителей[176], которые действовали в соответствии с запретами и законами Ветхого Завета[177], а также отвергали культ икон — кто отчасти, а кто и безоговорочно. Важно отметить, что среди тех, кто критиковал культ икон или выступал против него, были последователи монаха св. Нила Сорского, которые участвовали в спорах по поводу некоторых аспектов монашеской жизни[178]. Последователи Нила считали опасным поклонение красоте икон, которое могло нарушить взаимоотношения между верующим и Богом.
Петр Великий провел религиозную реформу, которая коснулась и отношения к иконам. Очевидно, что суеверие и идолопоклонство, связанные с культом икон, были широко распространены в России и этим не были обеспокоены ни церковные, ни светские власти. Петр оказался первым, кто указал на необходимость нравственного воспитания и наставления в связи с поклонением иконам[179]. Было осуждено проявление суеверия, за чем последовали некоторые умеренные меры преследования, а Синод порекомендовал в качестве исправления ошибок в церкви новые, надлежащие формы служения как метод исправления суеверий в отношении почитания икон[180].
Развитие иконы в Средиземноморье имело место в поздний период античности. Этот период характеризуется интенсивным обменом философскими идеями, убеждениями, традициями. Культ мертвых, особое отношение к умершим в рамках этого культа, общение с умершими, почитание памяти умерших среди живых — все эти элементы были восприняты ранним христианством и преобразованы в самостоятельную систему убеждений и верований в то время, когда христианство проходило через процесс ассимиляции и отмежевания от окружающего влияния язычества. Эллинистические представления о богах и духовных аспектах, где основополагающими концепциями были видимые и осязаемые объекты, привели к антропоморфическому представлению о богах, а затем проникли и в христианство, где обрели новую, «христианизированную» форму. Они были адаптированы и внесены в христианскую практику при массовом обращении язычников в христианство и были использованы для нужд нарождающейся имперской христианской религии. Культ императора в Римской империи, как и рост паломничества в священные места и распространение священных мощей, внесли свой вклад в поклонение образам, превратив их из элемента богослужения в важную часть официальной государственной религии. Икона сама по себе стала средством и центром как частной, так и общественной жизни церкви.
Praxis простого люда и сила народной религии играли важную роль в появлении икон. Христианское понимание, согласно которому икона является носителем божественной силы, которая может стать неким каналом для передачи Божьей благодати, сочеталось с эллинистическими концепциями о священных предметах как признаках божественной реальности, которая также способна защитить человека. Те элементы суеверия, которые были неразрывны с культом икон и которые не имели никакой богословской основы с самого начала, породили противоборство со стороны некоторых церковных мыслителей. Эти неорганизованные формы протеста привели к возникновению в VIII — IX веках по Р. X. иконоборческого движения. Однако даже это движение не смогло преодолеть силу народной религии, корни которой крылись в традиции поклонения образам, основанной более на легендах и мифах, нежели на Библейском основании.
Историческое развитие иконы в России происходило по византийскому пути. Христианство, которое пришло вначале на Киевскую Русь именно из Византии, в богословском смысле оставалось неизменным в течение многих веков, вплоть до 19-го столетия. Оно характеризовалось конформизмом к византийскому типу и консерватизмом в вопросах церкви и богословия. Любой отход от этого официального курса рассматривался как еретический и подлежащий подавлению. Недостаток богословского и нравственного воспитания относительно культа икон привел к суеверию среди простого люда, что вызывало противодействие со стороны, отдельных представителей русского народа, а также побудило светские власти в более поздний период к реформам в отношении культа икон.
Глава 2
Рассуждения философского
и догматического плана
Ассимиляция языческого образа мысли произошла примерно так же, как и ассимиляция языческого искусства. Раннее христианство оказалось на окраинах греко-римского мира и было вынуждено стремиться к самоопределению, используя свою собственную структуру верований, отличных от аспектов окружающего мира. Отличительные особенности иудейского христианства апостольских отцов, которое соответствовало взглядам ап. Павла о полном отвержении религии и отрицанию философии языческого мира, уступили место новым взглядам и нашли свое выражение на языке современников, «начиная со второй половины второго века»[181].
Греческая философия, которая была господствующей в эллинистическую эру и в период возникновения христианства, была широко распространена среди эллинских евреев и других современников христиан. Она подготовила почву для прихода христианства и способствовала распространению христианства через «синкретизм мысли и религии, охвативший поколение, жившее накануне христианской эры» и влияние мысли Платона и его последователей, таких, как Плотин, выраженное через философскую школу неоплатонизма[182].
Язык Платона, который «ко II веку по Р. X. становился все более религиозным», выражал определенные теории, привлекавшие интеллектуальных и образованных людей, и привел к «обращению в философию» — в определенный образ жизни[183]. «Стоическое понятие логоса»[184], «Платонические формы и концепции Реального, Бога, Формы, благочестия, единства, истины, красоты и истины»[185] были заимствованы сначала христианскими апологетами II века по Р. X., а потом «всеми греческими авторами», жившими в последующих веках[186]. Философская рациональная мысль греко-римской культуры стала для некоторых христианских писателей[187] средством общения и инструментом защиты Благой Вести и поисков, хотя и не всегда совершенных[188], «симбиоза философии и веры», способного объяснить христианские концепции и догмы[189].
Представления Платона о видимом и концепции образов как eikones — подобий и теней Реального — использовали в своих трудах такие христианские мыслители, как св. Василий и св. Иоанн Дамаскин, когда возникала необходимость защищать иконы от нападок противников. Таким образом, для того, чтобы понимать православную догму, которая находится «под культом иконы» и всего того, что с этим культом связано, нам нужно рассмотреть философские концепции и их связь с догмами и Писанием.
В первую очередь мы рассмотрим материю через творение, грехопадение, перевоплощение, физические чувства, а также материю в praxis, в отношении к богословию икон.
2.2.1. Предварительные ремарки
Иконы невозможно понять, не рассмотрев вопрос о материи, которая является основополагающей для культа иконы и должна рассматриваться в рамках доктрины о творении. Доктрина о творении является отправной точкой для всех последующих доктрин, которые рассматриваются православной церковью либо в свете творения, либо как имеющие к ней отношение.
2.2.2. Материя и творение
Творение есть ex nihilo, «нечто, созданное из ничего», сформированное из хаоса, что является «выражением божественной воли» и имеет «начало и осуществление»[190]. Творение имеет место по мере того, как нечто, то, что «происходит из слова Творца, принимающего участие в существовании этого нечто»[191] и не имеет «никакой самостоятельной реальности вне Бога»[192]. Сила единства является основной концепцией православия для устранения, дуалистичности между «материей и сознанием»[193], между физическим и духовным, концепцией, которую мы находим в учении Платона[194]. Материя воспринимается не как «выражение зла, но как проявление божественной любви и провидения»[195]. Позитивная сторона материи, которая имеет как духовное измерение, так и физическое, подтверждается Богом и в Писании (Бытие 1:13, 2:31), используется в Ветхом Завете для поклонения Богу (Исход 35:4-10) и воспринимается как «священный космос образов», где Бог непосредственным образом принимает «участие в действиях и трудах человека»[196]. Хотя материя сама по себе бренна и существует временно, Бог использует ее, чтобы явить людям священные реалии, которые вечны и нетленны, через акт перевоплощения[197]. Таким образом, православие использует «кисть, краски, дерево» и другие средства, чтобы провозглашать эсхатологическое освобождение всего творения и космоса через икону, которая выполняет роль некоего «окна, через которое человек мельком видит Царство Божие и обретает ощущение божественного блаженства и вечности той жизни, которая его ожидает в будущем»[198].
После грехопадения материя не стала злом сама по себе и не сделалась чуждой Богу. Эта концепция соответствует взгляду православия на первоначальное состояние человека, согласно которому он находился в состоянии невинности, за которым следовало совершенство[199]. Материя сама по себе нейтральна, исказившись после грехопадения, она, тем не менее, освящается посредством несотворенной энергии (благодатью) и воспринимается как «открытая возможность» для проявлений как на добро, так и на зло[200]. Такой взгляд на физический мир, где позитивное восприятие материи является основным, привел к формированию православным богословием красоты, основанной на книге Бытия[201]. Следовательно, икона служит напоминанием о добродетели первоначального творения, а также об эсхатологическом идеале грядущего мира.
2.2.4. Материя и перевоплощение
Перевоплощение является краеугольным камнем для богословского основания иконы. Изображение Христа на иконе очень важно здесь с доктринальной точки зрения, и как таковое оно опровергает учения доцетизма, несторианства и монофизитства. Икона изображает перевоплощенного Христа как характерного человека — «несомненного», как Личность, гипостатически соединенную с божественным. Две природы Христа изображены в одной Личности, и «человеческая природа Христа во плоти, соединенная с божественной природой, но не поглощенная ею»[202]. Материя, таким образом, стала достойной поклонения через Христа, принявшего человеческий облик.
Икона также «подтверждает онтологическое достоинство человеческой природы» и служит в качестве символа, указывающего на святость, которая была вновь сотворена Христом в человеческом теле, когда Он обрел человеческую плоть и восстановил его первоначальную красоту» и святость[203]. Освящение материи тесно связано с перевоплощением по причине гипостатического союза, в котором «все творение неразрывно участвует в акте нового творения»[204]. Ware[205] указывает на тот факт, что материя была обожествлена тогда, когда Бог взял материю-плоть и сделал ее «носителем духа», «сосудом Духа». Освящение материи, таким образом, рассматривается как завершенный акт искупления[206], в котором другие материальные предметы, в том числе дерево и краски, могут стать сосудами Духа посредством добродетели несотворенной энергии. И иконы, таким образом, представляют из себя «первые плоды искупления материи»[207].
Однако Ware[208] также подчеркивает, что доктрина иконы связана с убеждением православия относительно прославления и искупления всего творения в масштабах космоса, что является событием будущего. Такое искупление связано со спасением творения от греха, что является «непосредственной целью» сегодняшнего дня, хотя окончательно это будет осознано только в «грядущем веке»[209]. Следовательно, православие игнорирует серьезность грехопадения и его воздействия на «настоящее существование творения»[210]. В то время как материя создана хорошей и остается таковой после грехопадения, она, тем не менее, подверглась изменениям после этого грехопадения и в настоящем веке ожидает полного искупления, которое произойдет в будущем. Это в свою очередь имеет последствия для богословского основания икон. Здесь вполне естественно напрашивается вопрос, следует ли рассматривать икону в контексте эсхатологической темы искупления (Откровение 21:1), где перевоплощение является начальным пунктом всеобщего искупления в понимании уже, но еще нет, а икона является эсхатологическим напоминанием о том, что произойдет в будущем, а не вместилищем Духа в настоящем, в мире, где «вся тварь совокупно стенает и мучится» (Римлянам 8:22)[211].
2.2.5. Материя и физические чувства
Перевоплощение стало причиной освящения материи, что привело к признанию «эмпирических данных чувств» и даже побудило некоторых ученых поставить видимое выше слышимого, т.е. придерживаться концепции Аристотеля о приоритете видимого над слышимым[212]. Творение, которое происходит от Бога, представляется видимым, и, следовательно, как таковое оно способно донести до человека космические и спасающие реалии и истины, которые проявились во Христе. Через перевоплощение Бог привнес в этот мир онтологическое подобие Самого Себя, чтобы приход Христа на землю дал возможность не только услышать «сказанное слово Бога», но и «увидеть плоть перевоплощенного Слова Божия»[213]. Таким образом, перевоплощение принесло последствия для новой метафизики, которая охватывает эстетику и реабилитацию чувства зрения. Будучи средством напоминания о Божьей благодати, иконы стали в такой же степени освящать чувство зрения, как «слова Библии... освящать чувство слуха»[214].
Чувство зрения становится для православия средством выражения знаний о Боге и обожествлении, через которое иконы позволяют созерцать события из жизни Христа и святых, которое носит «сотериологический характер» и приводит верных Богу людей к спасению примерно таким же способом, каким израильский народ спасся, «взирая на медного змея»[215]. Икона, таким образом, становится «живым напоминанием» — «Благая Весть создала видимое», чтобы вдохновить верующих подражать Христу и святым[216].
2.2.6. Материя как восхождение к Богу
Материя рассматривается православием еще и как средство восхождения (ἀνάβασις) к Богу. «Высокое мнение» о материальных вещах было выработано у каппадокийских отцов, которые развили идеи Плотина о доступе души к трансцендентному Творцу[217]. Учение о добродетели творения было включено в три этапа восхождения к Богу, в котором добродетель созерцания вела к совершенству души и в «котором эта душа» позднее сливалась воедино с Богом[218]. Согласно Плотину, за таким созерцанием, которое начиналось с «математики и кончалось диалектикой», следовал мистический союз с Богом, что является конечной целью подобного созерцания[219]. Эти идеи были выработаны неоплатонистом, мистическим мыслителем Псевдо-Дионисием в конце V века по Р. X.220[220].
Концепция Псевдо-Дионисия о созерцании чувств от физического мира к миру духовному была «составной частью всеобщей метафизической структуры» и привела к иерархическому характеру в восприятии человеческих чувств — «аналогичному процессу, который идет от уровня ощутимых проявлений символов к уровню их предназначенного значения»[221]. Этот процесс рассматривался как восхождение от более низкой и чувственной к более высокой и интеллектуальной сфере, а в конечном счете и к Богу, для того чтобы отразить в материальных предметах Божью сущность[222]. Эта концепция позднее, в течение последующих веков, была воспринята христианскими апологетами и внесена в учение об образах. Икона стала главным объектом созерцания, который стал средством восхождения души верующего к Богу.
2.2.7. Икона как восхождение к Богу
Св. Иоанн Дамаскин прилагает неоплатоническую иерархическую теорию созерцания к учению о поклонении образам. Он считает, что существует определенная «иерархическая лестница откровения от видимого к невидимому», в которой «видимое таинственным образом обладает добродетелью того невидимого, которое оно представляет»[223]. Сакраментальный характер образа рассматривается как результат «восхождения от образа к Богу и схождения от Бога к образу» (κατάβασις) — неоплатоническая концепция[224]. Сакраментальная эффективность икон также рассматривается в связи с общей благодатью и «таинством церкви» как сакраментальной реальностью[225].
Limouris[226] отмечает, следуя неоплатоническим категориям Св. Иоанна Дамаскина относительно образов, что сакраментальный характер иконы можно рассматривать в качестве «основы соответствия между нарисованной иконой и образом Бога в человеческих сердцах»[227]. Икона с изображением Христа воспринимается как объект или средство, которое пробуждает в человеке Божий образ и призывает этого человека совершенствоваться и подражать своему архетипу. Более того, икона служит для того, чтобы передавать «освящающее присутствие Христа», а также возводить к Богу молитвы церкви и отдельных христиан»[228]. Это, в свою очередь, ведет к мысли о том, что икона является местом обитания Бога, но не посредством естественного единения с Ним, а посредством относительного участия в процессе, в ходе которого икона передает Божью славу и Божью благодать и сама по себе оказывается «онтологически чудотворной»[229].
Булгаков[230] считает, что сакраментальный характер иконы кроется не в ее художественном выражении, а в «освящении, которое дает ей ее особую силу для общения с человеком».
Благоговение перед святыми иконами основано не только на природе самих изображенных предметов, но и на вере в присутствие благодати, которую церковь призывает в процессе освящения икон. Церемония благословения иконы устанавливает связь между образом и его прототипом, между тем, что изображено и самим изображением. Благодаря благословению икон с изображением Христа происходит некая мистическая встреча верующего с Христом[231].
Однако можно задать вопрос, а законно ли придавать иконе священные атрибуты, поднимая ее тем самым до уровня, равного евхаристии, в свете приводимых мест Писания и учения православной церкви[232]. Получается, что роль иконы как объекта, наделенного священными качествами, выходит даже за рамки учения Второго Никейского Собора (787 г. по Р.X.), которое рассматривает икону как «напоминание», преследующее дидактическую цель[233], и даже за рамки православного учения о Таинствах и их сотериологической роли[234]. Более того, в Писании мы нигде не находим подтверждения тому, что икона обладает священными свойствами или выполняет роль посредника — данная теория основана на теории Платона о форме[235]. Кроме того, учение о сакраментальности иконы ставит под вопрос роль института евхаристии, а также подвергает опасности роль Христа и Святого Духа в Божией икономии — остается непонятным, какое место в жизни верующего человека отведено иконе и ее сотериологической и обожествляющей функции, и какое место и роль отведены в жизни верующего работе Святого Духа и общению через Него с Богом.
Учение о том, что икона онтологически обладает чудодейственной силой, имеет серьезные последствия для экклезеологического praxis и может привести к идолопоклонству и суевериям[236]. Ритуал освящения иконы отражает некоторые традиции греко-римской религии, в которой культовые образы, как считалось, обретают посредством некоего ритуала особую, божественную силу[237]. Таким образом, очевидно, что экспрессивная сила иконы связана только лишь с ее функцией психологического стимула[238]. Икона доносит до человека вразумительную истину в той же степени, что и любое другое произведение искусства, — «через силу чувствительных объектов», воздействуя на «чувства верующего исключительно психологически»[239].
Материя, ее ценность и значимость для доктрины об иконе в православном понимании всего спасения занимает свое место посредством учения о несотворенной энергии, которая исходит от Божьего естества. И сейчас мы рассмотрим концепцию несотворенных энергий во взаимосвязи с учением об иконе.
2.3. Несотворенные энергии
2.3.1. Предварительные ремарки
Догма о несотворенных энергиях содержится в проходивших в IV веке по Р. X. дебатах каппадокийских отцов о Троице[240]. Аспект взаимоотношений догмы о Троице является в это время первостепенным вопросом, который в свою очередь поднимает вопросы о том, как Бог относится к Своему творению и Кто Он есть. Первое учение — икономия — каппадокийцы объясняют через второе — теологию[241], в которых они настаивают на радикальной невозможности познать Бога и разделении между оузией (естеством) и энергией как средствами, помогающими сохранить Божью трансцендентальность и доступность. Эти богословские предположения были выдвинуты Григорием Паламой (1296 — 1359 гг. по Р.Х.) в своем мистическом богословии, касающемся благодати и единения с Богом. Мы рассмотрим концепцию несотворенных энергий в том виде, в каком она представлена в трудах каппадокийских отцов и Григория Паламы.
2.3.2. Каппадокийские отцы и знание Бога
К вопросу о поисках знания и доступности Бога каппадокийцы отвечали негативно, апофатически, подчеркивая то, чем Бог не является[242]. Эта позиция была основана на стоическом понимании отношения и субстанции — «знание о характерных особенностях предмета еще не говорит о существовании предмета как такового»[243]. Такое учение, приложенное к взаимоотношениям Троицы между Отцом и Сыном, привело к радикальному разделению между отношением и субстанцией, в которой отношение показывало только, как, но не что есть нечто[244]. Название «Бог Отец» было определено категорией по отношению «к другому» и как таковое не показывало, что Он есть, а скорее описывало Его в относительной категории как[245].
Отрицательное богословие говорит о полной неспособности познать Бога. Оно говорит о бессмысленности всяческих попыток человеческих чувств и сознания понять Бога в силу их явной неспособности понять трансцендентного и непостижимого Бога. Апофатизм ставил ударение на знание Бога через творение, поэтому данное учение ставило человеческое знание Бога на уровень того, что невозможно было «идентифицировать с Богом онтологически»[246]. Это явилось подтверждением того, что Бог онтологически является другим, «непознаваемым существом, несравнимым ни с чем и абсолютно необъяснимым, поскольку Он выше всяких утверждений и отрицаний»[247].
Св. Василий Великий настаивал на том, что Бог известен только через Свои труды и поступки, и такое положение приводит к тому, что люди понимают качество Бога, но не понимают Его сущность[248]. Эпистемологический подход св. Василия был основан на ограниченности человека в жизненном опыте, чувственных восприятиях и языке, в связи с чем, согласно Григорию Назианзскому, «мы ограничены и пребываем в заблуждении»[249]. Это обстоятельство привело св. Василия к пониманию ограниченности человеческого знания и пониманию Бога через общее откровение (Творение), ставя на второй план особое откровение (Иисус Христос). Знание Бога можно обрести только посредством Его божественной энергии, которая проявляется в творении[250]. Особое откровение Бога в личности Христа понимается в терминах отрицательного богословия и как таковое сводится к проявлению силы Бога, но не Его сущности[251]. Следовательно, в своих попытках отвергнуть арианскую ересь св. Василий слишком много внимания уделил Божьему превосходству и недоступности, представив таким образом картину полностью удаленного от этого мира Бога.
Св. Григорий Нисский, подтверждая эпистемологический подход св. Василия, развил дальше доктринальные и философские системы относительно учения о Троице. Находясь под влиянием философии Платона, он провел четкое разделение между сотворенной и несотворенной реальностью[252]. Сотворенная реальность представлена двумя категориями: чувствительные и способные понимать существа, среди которых люди рассматриваются как стоящие «на границе между чувствительными и способными понимать, принимая участие в жизни обоих миров как телесные и интеллектуальные существа»[253]. С одной стороны, чувствительные и интеллектуальные существа сотворенной реальности могут быть известны посредством человеческого разума и Писания, с другой стороны, он подчеркивал полную недоступность и всемогущество Бога. Таким образом, он развил двустороннее представление о знании Бога.
Во-первых, мы знаем Бога, постигая Его качества через общее и особое откровение, в котором Григорий не делает особых различий «между открытым и естественным знанием Бога»[254], Во-вторых, поскольку Бог совершенно иной, чем человек, и совершенно для человеческого разума и чувств недоступен, Его можно познать и через мистический союз, который отвергает эмпирические данные чувств и интеллекта, а вместо этого поднимает человека ближе к Богу только верой[255]. Такая концепция вела к опасности придания чрезмерной важности усилиям человека стать ближе к Богу, вступить в мистический союз с Ним более через созерцание, нежели через посредство искупительной жертвы Христа и особого откровения Бога в том виде, как об этом сказано в Писании.
2.3.3. Григорий Палама и знание Бога
Палама развил учение каппадокийцев о разделении между сущностью и энергией через исихастскую полемику[256], защищая в то же время учение о прямом доступе к Богу, которое развивали исихастские монахи[257]. Он защищал взгляды исихазма относительно мистического союза и обожествления через участие в божественном несотворенном свете. Одним из основных вопросов исихастской полемики, как и каппадокийской, был вопрос о прямом доступе к Богу и обожествлении человека[258].
Следуя своим апофатическим традициям относительно взглядов на Бога, Палама делал ударение на онтологическом разделении Триединого Бога. Он определял естество (сущность) Бога как неразделимого по своей сверхъестественной сути (оузия), три божественные ипостаси, как то Отец, Сын и Святой Дух, а также несотворенные энергии: «силы, соответствующие Божьей сущности и неотъемлемые от нее, в которых Он исходит от Себя, проявляет Себя, общается и отдает Самого Себя»[259]. Бог известен человечеству только через реалии мистического союза, который заключается лишь посредством несотворенных энергий (благодати)[260].
Наряду со своими взглядами о Божием естестве, Божиих ипостасях и энергиях, Палама представлял себе три различных уровня союза с Богом. Он утверждал, что в то время как Бог остается непознаваемым и неразделимым в Своей сверхъестественной сущности, «Он сохраняет реальные и непосредственные отношения с миром посредством Своей природной энергии, которая, являясь сиянием божественной природы, сама по себе является несотворенной»[261]. Союз с Самой сущностью Бога невозможен — «если творение могло бы быть составляющей божественной сущности, оно было бы Богом, неразрывно с Богом»[262]. Союз с Богом через ипостась возможен «только для Сына»[263]. Таким образом, божественная энергия становится для Григория Падамы единственным средством, с помощью которого человек может общаться с Богом.
Апофатический взгляд представляет Бога, с одной стороны, безличностным в Своей оузии. С другой стороны, в трех Своих ипостасях Он воспринимается как Личность и известен через несотворенные энергии, которые воспринимаются как енипостатические (личные), ноне представляют в себе божественную сущность как таковую. Будучи неразделенной от оузии, божественная энергия тем не менее воспринимается как отдельная от оузии и фактически исходящая от нее[264]. Следовательно, энергия не представляет саму себя и «не созерцается ни сама в себе, ни в самой своей сущности, но в ипостаси» — «Бог полностью присутствует в каждой из этих божественных энергий»[265]. Отсюда следует, что три божественные ипостаси Бога обладают божественной энергией, которая носит личностный характер и может быть познана людьми. Знание и существование Бога воспринимаются православием в «двух разных плоскостях» — «в сущности и вне сущности»[266], создавая парадокс, в котором Бог является познаваемым и непознаваемым одновременно.
Однако разделение, которое проводит Палама между сущностью, личностью и энергиями, поднимает онтологические и экономические проблемы. Negrut[267] отмечает, что онтологически «это разделение в Боге ведет к риску компромисса с принципом единства и простоты божественной сущности, согласно которому учение о том, что сущность и энергия являются божественными и онтологически разделены, может привести к пониманию о двух различных богах[268]. Остается неясным, какая часть божественной ипостаси обладает энергией для общения с человеком. Очевидно, что существуют две части Бога: нижняя часть, к которой люди могут приобщиться через энергию, и высшая часть, которая остается недоступной.
Эта концепция, если доводить ее до логического конца, может привести к дуализму в рамках божественной ипостаси.
LaCugna[269] отмечает, что Палама сделал онтологический сдвиг от каппадокийского учения относительно оузии Бога. Если каппадокийцы понимали, что Божья оузия существует «в трех ипостасях» как Отец, Сын и Святой Дух троично и является божественной оузией, Палама считал, что Божия оузия принадлежит к сфере сверхсущности, а божественные ипостаси разделяют общую оузию и непрямым путем вступают в союз с человеком через несотворенные энергии[270]. Таким образом, он представляет нам расхождение между сверхъестественной оузией Бога и божественными ипостасями. Это, в свою очередь, чревато опасностью дуализма в представлении Бога. Человек, таким образом, не может иметь прямого доступа к божественной ипостаси, а имеет его только к божественным личностям, которые выражены через божественную энергию, выполняющую функцию «посредника между божественными личностями и человеком»[271].
Соответствующим образом, это создает сотериологическую проблему на уровне икономии. Общение с ипостасью Бога посредством несотворенных энергий оставляет неясным «онтологический статус, равно как и то, какую роль внутри Троицы выполняет каждая категория Божьего существа»[272]. Если функция несотворенных энергий состоит в том, чтобы доносить до человека божественные свойства и качества в процессе восхождения того к Богу, тогда неясно, какую роль в процессе спасения играют Дух Святой или Сын[273].
Negrut[274] также отмечает, что учение об энергии, о том, что они выражают, «что есть личности... в то время, когда они не являются личностями сами по себе (энергии)», ведет к дальнейшему «устранению» божественных личностей «из икономии спасения». Оно также создает трудности для установления личных взаимоотношений с Богом, который «сам общается через такие неипостатические существа, как несотворенные энергии»[275].
Вопрос о несотворенных энергиях является существенным фактором в богословии икон. Поэтому дальше мы рассмотрим положение о несотворенных энергиях в их связи с иконами.
2.3.4. Иконы и несотворенные энергии
Несотворенные энергии составляют главную связь между Троицей, иконой и человеком. Триединый Бог, Который всемогущ, непознаваем и неописуем в Своей сущности, общается со Своим творением через материальный мир. Человек как «вершина творения» рассматривается как живущий в сотворенной реальности, которая пронизана несотворенными энергиями — жизненно важной связью между Богом-Творцом и Его творением[276], в которой икона выполняет роль средства снисхождения Бога к человеку посредством несотворенных энергий, а также как средство восхождения человека к Богу.
Giakalis[277] отмечает, что общая благодать, которая дана всему творению, является следствием того, что она сотворена и исходит от Бога[278]. Кроме того, он делает различие между энергиями, которые дает Триединый Бог, и между существами, которые получают различные виды энергии и «участвуют в очистительной, освящающей или обожествляющей энергии Святой Троицы»[279]. Он также делает различие между двумя типами энергии — той, которая дается небесным существам и людям, и той, которая дается другим существам или предметам, например, иконам, а также предписывает евхаристические требования, которым должны отвечать те, кто получает эти божественные энергии.
«Несотворенная энергия, которая обожествляет, дается по благодати одним только Триединым Богом ангелам и святым; энергия, которая очищает, просвещает и освящает, дается иконам и святому Кресту... и передается от них через таинства церкви тем, кто достоин ее, — не всем в одинаковой степени, а в соответствии с духовным состоянием»[280].
Таким образом, икона воспринимается как средство очищения, просвещения и освящения, и как таковая выполняет сотериологические функции. Однако остается вопрос, является ли то разделение, которое сделал Giakalis, веским и полезным. Он не дает никакого четкого обоснования для того, чтобы представить такие разделения и степени несотворенных энергий для различных людей. Здесь вполне возможно прийти к дуализму относительно этих энергий: получается, что одна энергия высшего ранга или качества дается только избранным личностям, которые ее заслуживают, а другая, низшая, энергия доступна всем обыкновенным людям через иконы и другие таинства. Евхаристические намеки его терминологии также ставят вопрос о правомерности его методов герменевтики и экзегетики[281].
Negrut отмечает, что в предположениях Giakalis остается неясным, «почему иконы не могут участвовать в труде обожествляющей энергии, а также непонятна онтологическая почва для такого разделения между разного рода несотворенными энергиями»[282]. Более того, кажется непоследовательным аргумент, касающийся обожествляющей энергии, когда, с одной стороны, Giakalis утверждает, что священные предметы и таинства не имеют никакого отношения к обожествляющей энергии[283], а с другой — что евхаристия несет в себе «труд обожествления в тех, кто обожествлен»[284]. Соответствующим образом, приписывая особые функции определенному типу несотворенной энергии, Giakalis рискует сделать ипостасью все эти энергии и подорвать «важность Святого Духа»[285]. Тем не менее Giakalis допускает возможность отказаться от использования иконы, если верующие смогут достичь духовного уровня «теории», т.е. непрестанной молитвы Святого Духа в сердце», что указывает на слабость всего его аргумента относительно икон и их сакраментальной природы[286].
Более того, сотериологические аспекты икон, согласно которым несотворенные энергии выполняют функции очищения и освящения верующего, приводят или к умалению, или к устранению роди Святого Духа в его жизни. Таким образом, иконы могут во взглядах такого верующего начать выполнять сотериологические функции Христа и Святого Духа, поскольку получается, что Триединый Бог общается с верующими посредством несотворенной энергии через иконы, которые оказываются посредниками между человеческим и божественным[287].
2.3.5. Иконы и ипостатическая идентичность
Кроме того факта, что иконы получают Божью благодать, поскольку берут свое начало в Триедином Боге, являясь частью материального творения, иконы еще и получают несотворенные энергии посредством ипостатичной идентичности.
Ouspensky[288] утверждает, что Халкидонское разделение между природой, с одной стороны, и личностью, или ипостасью, — с другой представляет важный момент для почитания иконы. Икона в том виде, как она представлена, является не природой, а личностью Иисуса Христа[289].
Икона является образом неразделимой божественной личности — «Сына Божьего, который пришел во плоти», стал видимым в Своей ипостаси[290]. Вдобавок, икона связана со своим прототипом и получает божественную благодать, поскольку отражает личность Христа и носит Его имя[291]. Иными словами, идентичность иконы схожа с идентичностью образа божественной личности и обретает божественную благодать благодаря тому, что изображает личность Христа мистическим образом[292]. Более того, считается, что икона наделена реальным Божиим присутствием. Отцы церкви утверждали, что икона с изображением Христа является Самим Христом, подобно тому, как портрет императора считался самим императором[293] и являлся как бы «продолжением его присутствия», а изображение святого представляло самого святого[294].
«Икона или крест существуют не просто для того, чтобы, во время молитвы направлять наше воображение. Это некий материальный центр, который содержит в себе энергию, божественную силу, который соединяется с человеческим сердцем[295].»
Следовательно, вопрос реального Божьего присутствия в иконе по своей сути отражает взгляд православия на евхаристию. Икона рассматривается как «сама реальность Тела и Крови Христа», где «Тело и Кровь Христа невидимо присутствуют таинственным образом»[296]. Это ведет к заключению о том, что верующий вступает в общение с Богом или святыми и участвует в их святости и присутствии через благодать, в которой икона рассматривается как «посредник между представленными на ней личностями» и верующими[297].
Отсюда следует, что иконы исполнены благодати и освящены, поскольку они «в определенном смысле участвуют в божественном» посредством благодати, которая исходит от прототипа к верующему[298]. Имена Бога, как и имена друзей Бога, т.е. святых, служат в качестве средства освящения иконы и обеспечивают «благодать божественного Духа»[299].
Хотя православные богословы[300] заявляют, что икону можно идентифицировать с прототипом в ее ипостаси, и, следовательно, она способна обретать благодать, однако остаются вопросы, которые такое положение ставят под сомнение.
Во-первых, неясно, до какой степени художник отражает ипостась Христа и святых, не добавляя при этом своего собственного воображения, т.е. остается верным ипостаси и не отражает своего собственного видения прототипа[301]. Кроме того, если с апостольских времен нет достоверной традиции о существовании портретов Христа, резонно спросить, не стали ли такие образы «чистыми отражениями психологического чувства»[302]. Сомнительно также, возможно ли сохранить идентичность личности, представленной на иконе, с ее ипостасью. Более того, кажется, что сходство иконы с прототипом всегда была больным местом в попытках изображать божественный прототипы по причине неадекватности и испорченности человека после грехопадения. Отсюда возникает другой вопрос — насколько изображение на иконе схоже с прототипом. Более того, если между образом и прототипом нет никакого полного сходства, то обретает ли икона божественную благодать, или же она остается просто образом, которым можно пользоваться как средством обучения, но который вовсе не обладает «божественной аурой».
Во-вторых, утверждая, что икона обладает божественной благодатью в силу своей ипостатической идентичности, а также то, что икона представляет реальность Христа, православие рискует впасть в идолопоклонство, видя в иконе божественную личность Триединого Бога. Возникает, таким образом, онтологическое смешение образа и его прототипа. Делая онтологическое разделение между сущностью и энергией, православие не делает никаких онтологических разделений между ипостасью и образом. Отсюда также возникает вопрос, который касается непосредственно praxis на екклезиологическом уровне, в жизни церкви, и в жизни каждого человека. Вопрос, касающийся praxis, состоит в том, рассматривается ли образ (икона) в качестве образа прототипа, который сам по себе не обладает никакой реальной божественной силой (нет никакой опасности идолопоклонства), или же этот предмет рассматривают как обладающий реальной божественной силой, что может привести к почитанию икон (идолопоклонство). Таким образом, возникают проблемы, касающиеся правильного отношения к иконе верующих людей во время богослужения, а также проблема ответственности за соответствующее учение со стороны церковного руководства.
В-третьих, утверждение о том, что икона ведет к божественному присутствию в сакраментальном смысле как посредник, который «посредничает» между Богом и человеком, передавая благодать, которая исходит от Бога к верующему, сводит на нет сакраментальные функции евхаристии. Такое учение, судя по всему, основано на философской теории, а не на Писании.
В-четвертых, здесь возникает вопрос относительно имен и их функций в Божьей икономии. Непонятно, до какой степени имена Бога или святых функционируют таким образом, что освящают икону.
В православном богословии концепция о несотворенных энергиях тесно связана с идеей об обожествлении. Мы обратимся к взаимоотношениям между этими концепциями и рассмотрим их место и роль в связи с богословием икон.
2.4.1. Предварительные ремарки
Несмотря на то, что идея об обожествлении на первый взгляд кажется экстравагантной и связанной не с учением Библии, а с философскими концепциями, которые уходят корнями в эллинистическую историю[303], согласно утверждениям некоторых православных исследователей, эта идея находит свое подтверждение в Библии[304]. Мы постараемся внимательнее рассмотреть идею обожествления в ее связи с доктриной о творении, грехопадении, перевоплощении и ее значение для богословия икон.
2.4.2. Творение и обожествление
Догма православия о творении определяет человека в момент творения как «младенца (nepios), которому предстояло вырасти, чтобы стать взрослым»[305] — это учение впервые высказал Св. Иреней, а позднее его развили св. Афанасий, каппадокийцы и современные православные богословы, такие, как Лосский[306]. Сотворенный несовершенным, хотя и по образу Божию, человек должен был стать совершенным и соединиться со своим архетипом посредством общения с Богом — через обожествление (theosis), которое является конечной целью человека[307]. Человек может достичь обожествления по той причине, что он создан по образу и подобию Божию.
Исходя из толкования Иренеем отрывка Бытие 1:26-27, православные богословы делают различие между образом (eikon) Бога в человеке и его подобием (homoiosis) Богу. «Образ Божий» рассматривается как «потенциал, данный человеку, посредством которого он может достичь fheosis и стать как Бог»[308]. «Подобие Божие» относится к реализации этого потенциала» — «вхождению все больше и больше в образ Божий»[309]. Иными словами, данное расхождение — это расхождение между «быть» и «стать»[310].
Более того, утверждение о свободе волеизъявления представляется важным для теории обожествления, поскольку подчеркивает концепцию «образа»[311]. «Личность» человека понимается как свобода и свободное волеизъявление, душа и тело[312]. Человек способен к обожествлению, потому что, «созданный по образу Божьему, человек... является личностью... которая может самостоятельно контролировать природу, ассимилируя ее к своему божественному Образцу», а также обладает свободой выбора между добром и злом, для того чтобы выбирать путь обожествления[313].
2.4.3. Грехопадение и обожествление
Утверждение православия о том, что «образ Божий в человеке является потенциалом, который необходимо реализовывать», все противоречит положению о том, что человек может становиться хуже[314]. Человек обладает свободной волей, чтобы достичь обожествления, но неправильно использовал свою свободу и не послушался Бога «в силу недостатка воли»[315]. Впоследствии грехопадение оказалось для человека не радикальным отходом от его первоначального положения, а просто неудачей в достижении поставленной перед ним задачи — обожествления. В результате образ Бога в человеке оказался искаженным, «но не уничтоженным полностью»[316]. Грехопадение также привело к ограничению свободы человека, который мог теперь «открывать для себя и реализовывать те ограничения и потенциальную опасность, которые он унаследовал, будучи сотворенным Богом», и которые существовали с самого начала[317]. Грехопадение привело к испорченности и смертности, а это, в свою очередь, привело ко греху и непослушанию, равно как и к отделению от Бога.
Однако грехопадение не уничтожило в человеке образ Божий: «сам образ ослаб, поскольку не был в полной мере сформирован в процессе роста к подобию»[318]. Осталась у человека и свобода выбора — «свобода выбора между добром и злом»[319]. Эта свобода, «ограниченная и подорванная грехопадением, не исчезла полностью, и человеческая воля рассматривается как болезненное состояние, подобное тому, при котором человек болен, но не мертв»[320]. Это ударение на человеческую свободу и свободу волеизъявления имеет для идеи православия об обожествлении важные последствия — после грехопадения обожествления можно достичь только через взаимодействие (synergeia) обеих сторон: божественной благодати и человеческой воли[321]. Такое взаимодействие представляется как парадокс: в то время как «инициатива носит исключительно божественный характер, поскольку зарождается и завершается в пределах божественной триединой жизни; в то же время для того, чтобы обрести спасительную благодать, необходим ответ со стороны человека»[322]. Эта важная божественная инициатива в большой степени проявилась в акте перевоплощения, осветив тем самым все те трудности и препятствия, которые были созданы грехопадением на пути к обожествлению.
2.4.4. Перевоплощение и обожествление
Согласно православному богословию, перевоплощение Христа стало важным шагом к обожествлению. Обладая как божественной, так и человеческой природой, Христос представляет ипостатический союз человеческой и божественной натур — «communicatio idiomatum»[323] и как таковой представляет тесное взаимоотношение между перевоплощением и обожествлением[324]. Ипостатический союз Христа создает также «полный союз человеческой воли с божественной волей», который освобождает человека от уз его воли и открывает путь к обожествлению[325].
Соответствующим образом, перевоплощение Христа в человеческое тело наводит на заключение о том, что Иисус стал обожествленным и, как результат, путь к обожествлению открыт. Христос рассматривается также в качестве «архетипного» второго Адама, Который через Свое послушание Богу, а также Свою природу представляет «божественную парадигму человеческого существования личности»[326]. Он также восстанавливает в человеке образ Божий и делает его ближе к первоначальному положению, давая еще одну возможность обрести божественное подобие и участвовать в божественной жизни. Следуя выражению св. Иренея о том, что Христос «стал таким, как мы (люди) для того, чтобы мы могли стать такими, как Он (богами по благодати)»[327], отцы церкви развили идею об обожествлении, основанную исключительно на перевоплощении.
Природа перевоплощения Христа и взаимоотношения между человеческим и божественным в деле спасения поднимают еще один вопрос — роль несотворенных энергий в обожествлении.
2.4.5. Обожествление и несотворенные энергии
Тему обожествления нельзя понять отдельно от учения о несотворенных энергиях. Фактически идею обожествления необходимо рассматривать «во свете разделения между Божьей сущностью и Его энергиями»[328]. Само обожествление, если оно проводится лишь людьми, ведет к мистическому союзу не с Божьей сущностью[329], а с Его энергией — отвергая, таким образом, любые «формы пантеизма»[330]. Этот мистический союз предполагает истинное единение с Богом без всякого слияния: «Творец и творение не сливаются в одно целое» и, как результат этого, человек становится «неким богом по благодати», или «по состоянию»[331].
Тема обожествления и несотворенных энергий тесно связана с взглядом православия на икону, особенно на ее сотериологические функции.
2.4.6. Обожествление и иконы
Говоря об обожествлении как о процессе, который охватывает всю личность — тело и душу — в жизни верующего, православные ученые отмечают, что обожествление в этой, земной, жизни носит лишь частичный характер[332]. Следовательно, в этой, земной, жизни человек может отражать только свою духовную сторону — «внутреннюю красоту, красоту только души»[333]. Полное обожествление человеческого тела завершается только в момент окончательного воскресения, которое дает человеку новое духовное, обожествленное и преображенное тело[334].
Таким образом, икона символически изображает это преображенное, обожествленное состояние тела, эсхатологически указывая на идеальную человеческую природу, к которой в земной жизни верующий должен стремиться, и которой должен подражать. Этой задаче также подчинен и технический стиль изображения — художник «избегает делать реалистичный, «фотографический» портрет» человека, избегая таким образом изображать портрет человека в его «земном, греховном состоянии»[335]. Вместо этого на Иконе изображаются «божественная красота и слава, видимые через материальные средства изображения человеческому глазу»[336]. Несмотря на то, что православие поддерживает идею об обожествлении на основании Писания и своей доктрины, она, тем не менее, вызывает несколько вопросов и возражений.
Во-первых, некоторые православные ученые[337] основывают положение об обожествлении главным образом на доктрине перевоплощения. Это, однако, ведет к сотериологическим трудностям в поисках достойного места для смерти Христа[338]. Методологически будет неправильным подходить к доктрине перевоплощения как таковой отдельно от служения, смерти и воскресения Христа, которые составляют весь труд спасения. Можно сделать такое предположение: а не лучше ли рассматривать перевоплощение в качестве части всего спасительного явления Христа, к которому необходимо относиться как к единому явлению, ведущему к обожествлению человека, при этом не отделяя перевоплощение от искупления, но рассматривая то и другое как единое целое?
Кроме того, православие смотрит на обожествление как на «свершенную реальность» — «следствие перевоплощения: освящение материи и преображение плоти»[339]. Тогда получается, что вопрос обожествления отражает реализованную эсхатологию, которая игнорирует тот факт, что несмотря на перевоплощение «плоть все еще не преображена», а пребывает в состоянии уже, но еще нет, «ожидания и надежды»[340].
Более того, православные ученые не разъясняют положение о человеке, который становится богом по благодати. Является ли это вопросом лингвистики[341] или богословия, здесь необходимо разъяснить, до какой степени человек как творение может стать богом (Богом), Который является Творцом. Отсюда следует, что «доктрина обожествления, стремясь сделать природу чем-то таким, чем она не является, но не сумев это сделать, ведет людей к ложным надеждам»[342].
Подобным же образом необходимо поднять вопрос о том, следует ли рассматривать икону скорее как эсхатологический знак, не обладающий никакими магическими атрибутами, который указывает на будущий обожествленный мир, нежели посредником, обладающим сакраментальными качествами, передающими божественную благодать в этой жизни[343].
Наконец, до какой степени художник может представить в иконе обожествленное состояние мира в будущем[344], если это состояние — его обожествленная природа, согласно Павлу[345], принадлежит будущему, а в настоящей жизни видно лишь «сквозь тусклое стекло» (1 Коринфянам 13:12) и «преломляется в соответствии с ограничениями» человеческой природы[346]? Отсюда становится очевидным то, что нет «никакого сходства... между несотворенным и сотворенным и что человеческий интеллект не может восполнить этот эпистемологический пробел»[347].
2.5.1. Предварительные ремарки
Концепция образа представляет собой суть богословия иконы и играла важную роль во всем историческом развитии иконографии в praxis. Философский подтекст в письменных трудах отцов церкви, в первую очередь тех, кто выступал в защиту поклонения образам, заставляет исследователя искать корни этой концепции в эллинистической философии и метафизике, которые сыграли важную роль в развитии христианского богословия образов. В этом разделе мы рассмотрим происхождение концепции образа, ее развитие и применение в богословии икон,
2.5.2. Происхождение концепции образа
2.5.2.1. Платон
Концепция образа в отношении богов и идей была выдвинута впервые Платоном. Его концепция образа как чувственного фактора является, в негативном смысле этого слова, неадекватной по отношению ко всякому выражению идей, а в позитивном смысле — помощью или средством в процессе восхождения к понятному миру. С одной стороны, концепция образа используется для того, «чтобы умалить мир чувственного опыта и категорически отделить его от мира идей»[348]. Мир идей является единственным реальным миром[349], который стоит выше мира земных вещей, являющимся образом идей и, как таковой, имеющий «вторичную реальность и достоинство»[350]. Художественное выражение в этой шкале ценностей стоит даже ниже и воспринимается как «имитация природы, далекая от истины»[351]. С другой стороны, существует положительный взгляд на образы, в котором «весь естественный космос» задуман «как совершенный образ вечной парадигмы… как удивительное проявление божественного»[352].
Соответственно, такое искусство не является чем-то унизительным, но является средством выражения истины о реальности идей, которое зависит от того, насколько хорошо оно представлено, и насколько схожи между собой образ и тот объект, который этим образом представлен[353]. Следовательно, человек воспринимает доступный человеческому восприятию мир через средства искусства, хотя только лишь на первичной ступени[354].
Следующей стадией в развитии концепции образа стало появление εἰκών — концепции, которая идентифицировала идеи с бестелесными образами. Эта концепция с соответствующей терминологией была выдвинута иудейским ученым Филоном, который объединил их в богословско-философскую структуру, где Божественный Логос воспринимался как образ Бога[355].
Вклад Филона возымел место тогда, когда язык платонизма, его идеи и концепции изменились, превратившись из «независимой сущности в мысли о Боге»[356]. Понимание Филоном Логоса как чего-то такого, что сотворено Богом, которое повлияло и на понимание всех связанных с этим идей, заставило философа «пересмотреть значение платоновского термина "образ" (εἰκών)[357]. Если Платон считал, что этот термин применим к видимому миру, а идеи здесь являются образцами (παραδείγματα), то Филон, вслед за Платоном, описывал явления видимого мира термином «образ». Соответствующим образом идеи, будучи связанными с Логосом, представляют образец как идеал, архетип (αρχέτυπος) для видимых вещей[358].
Однако, в отличие от Платона, Филон прилагал термин «образ» к миру идей и к Логосу на том основании, что только Бог может быть образцом, или архетипом, для видимых миров по причине того, что Он является их Творцом[359]. Далее, видимое было описано по образу идеи и Божественного Логоса, которые являются архетипами по отношению к видимому миру, но только образами по отношению к Богу-Творцу[360]. Божественный Логос был идентифицирован со Словом Божиим «как сумма Божиих сил и энергий» и как образ Божий. Таким образом, учение Филона[361] представляет из себя связь между, греческой философией и христианско-философской мыслью, которая была порождена ранними отцами церкви и была весьма значимой в последующих дебатах о Христе и Троице[362].
2.5.2.5. Дебаты о Христе и Троице
Ladner[363] отмечает, что выдвинутые Платоном теоретические концепции образов, которые были основаны на его взглядах на истинный образ, прекрасно дожили до IV века по Р. X., несмотря на упадок «греко-римского натурализма... в искусстве». Эти концепции, когда возникла такая необходимость, теперь стали использоваться для защиты божественности и человечности Христа. Природа взаимоотношений между Отцом и Сыном была начальным пунктом для последующей теории образов. Эта концепция была сведена св. Афанасием и св. Василием в христологическую формулу и затем использована сторонниками икон, которые цитировали их в течение всего периода иконоборчества, показывая взаимоотношения между образом и прототипом[364].
Таким образом, получается, что между образом и его прототипом существует связь. Если приложить эту идею к концепции о Троице, можно прийти к заключению о том, что Логос, или Христос как Образ Бога, неотъемлем от Бога Отца, первой ипостаси Троицы, и согласно Своей природе и как Таковой составляет «соответствие подобия, основанного на естественной неотъемлемости»[365].
Более того, различие между природой/сущностью и Личностью/ипостасью в Троице, как это представлено св. Григорием Нисским, подчеркивает идентичность природы между тремя ипостасями и определяет отношение между Христом/образом, «который является единосущным Образом Отца», и Богом/архетипом как отношение «идентичности природы»[366]. Христос, таким образом, воспринимается как εἰκών, единосущный Отцу, что касается Его божественности[367].
В добавление также можно сказать, что св. Григорий Нисский ввел положение об изображении образа Бога. Сотворение человека по образу и подобию Бога сравнивалось с трудом художника, который рисует картину.
«Как... художники посредством определенных цветов передают на свои картины человеческие формы, стараясь в точности передать соответствующие схожесть (μίμημα) и тона, чтобы красота архетипа могла быть отражена в точном подобии (ὁμοίωσις), так и наш Творец, мне кажется, посредством Своих художественных приемов создает образ.[368]»
История о творении, однако, содержала несколько экзегетических проблем, касающихся концепции образа Божия[369]. В то время как человек был создан по образу Божию, Сам Христос был Образом Бога, и хотя человек «был сотворен по образу Божию» (Бытие 1:27), в отличие от Христа он был «создан из праха земного» (Бытие 2:7), по подобию Бога[370]. Таким образом, утверждения об образе и подобии Божием понимались по-разному.
Во-первых, св. Иреней и такие его последователи, как св. Мефодий Олимпийский, утверждали, что образ и подобие Божий — это антропоморфические термины. Они считали, что Бог взаимодействует с человечеством через человека Христа-Логоса, Который является Образом Бога и который воплотился во Христа таким образом, «будто Он нарисовал Свое изображение» для людей, чтобы они могли «подражать Ему, творцу этого образа»[371]. Это, в свою очередь, привело к тому, что на человека стали смотреть как на образ Христа.
Во-вторых, существовал еще один подход, при котором ударение делалось на образное отношение между Богом и человеком как отношение между душой и духом. Этот александрийский подход приписывал образу Божию в человеке интеллектуальный уровень человеческого существования — душу, разум и свободную волю[372].
Далее, было проведено различие между образом Божиим и божественным подобием[373]. Такие антропологические идеи и их понимание повлияли на развитие концепции образа. Поскольку они были дополнены утверждением об отношении художника к божественному образу и подобию, или представлениями об образе, который становится близким к своему архетипу образа наподобие «образа в очищенном и отполированном зеркале», это привело к созданию концепции взаимоотношений образа-прототипа через сходство[374]. Образ Христа как художественное воспроизведение идентифицировался с Ним и Его человечностью — божественно-человеческой ипостасью, но не идентифицировался с Его сущностью[375]. Несмотря на идентичность между Христом как второй ипостасью Троицы и образом Христа в том виде, как он представлен на иконах, во избежание идолопоклонства нужно было дальнейшее разъяснение. Это было сделано, когда было подчеркнуто различие по сути между Христом как Личностью Троицы и Его изображением на иконе.
2.5.2.4. Натуральные и имитационные образы
Отцы церкви сделали концептуальное различие между натуральным и имитирующим образом. Это различие было сделано под влиянием концепции Платона о понятном и чувственном мире идей[376]. Получилось, что существует иерархия образов: «доступный человеческому понятию мир, который является образом Бога, и чувственный мир, который является образом понятного»[377]. На более высоком уровне стоит Бог как Отец Образа, представленного Христом — Образом Отца, а также образцом для других, а на более низком уровне стоит человек, который сотворен по образу Божию. Эти образы соотносятся через подобие, которое определяется как «эквивалент участия, отношение более низкого к более высокому порядку в иерархии»[378]. Поскольку образ подобен архетипу через схожесть, он идентичен ему и един. Логос рассматривается как пресуществующий с Отцом и в каждом человеке, который создан по его образу[379].
В свете дебатов о Троице, которые касаются взаимоотношений Отец — Сын, природа идентичности Сына и Отца была определена как категория взаимоотношений. Идентичность Сына и Отца рассматривалась в соответствии с сущностью. Поэтому Христос воспринимался как Естественная икона Отца, иными словами, «образ надо понимать и определять на основе того, к чему он относится»[380]. За этим последовало существенное различие[381] между образом и тем, что было изображено. Христос, будучи Образом Бога и божественным по ипостаси, находится в ипостатическом союзе со Своей иконой по причине сходства. Более того, благодаря воплощению и его ипостатическому союзу считалось, что Христос принадлежит как божественной, так и человеческой природе. Хотя икона и ее прототип были идентичны благодаря подобию и имени[382] представленной на иконе личности, они, тем не менее, различались по своей сущности, которая для иконы была деревом или металлом, а для прототипа — божественной личностью[383]. Таким образом, художник был способен имитировать только человеческую ипостась Христа, а «оригинал и его образ от этого не становились идентичными по сути», хотя и рассматривались в качестве коррелятивных (соотносимых)[384]. Кроме того, натуральный образ отличается от имитационного формой и материей. Первый представлен Богом, а второй — человеком, в первом материя просматривается через Бога или Его сущность, в последнем — посредством «корпоративной субстанции»[385].
Подобным образом, в то время как Христос является натуральной иконой- Отца и как Таковой содержит в Себе «всю истину Отца как в форме, так и в материи», имитационный образ не представляет материю своего архетипа — а только его форму, и поэтому здесь нет полной идентичности, а где нет полной идентичности, а есть хоть какое-то отличие в форме и сути, нет и не может быть места для всей истины»[386]. Несмотря на это, образ «является следствием, причиной которого оказывается его архетип»[387]. Отсюда следует, что «тот, кто уничтожает следствие, тот уничтожает причину, и поклонение, которое оказано следствию, оказывает влияние на причину»[388]. Эта аристотелевская теория причины и следствия была приложена к концепции образа так, чтобы представить взаимоотношение между архетипом и образом как причину и следствие. Отсюда следовало, что
«искусственные образы и, даже больше, естественные образы влияют на существование архетипа, к которому они относятся. Поскольку существует образ, неизбежно должен существовать и его архетип; и когда образ исчезает, с ним исчезает и архетип.[389]»
Однако, как отметил Alexander[390], такое положение не может быть в достаточной мере обоснованным. Аристотель знал о противоположном — соответствующие образы «могут исчезать, ни на что не воздействуя», таким же образом, как и объекты знания или восприятия могут существовать так, что никто о них не знает и не имеет ни малейшего понятия»[391]. Иными словами, образы Христа или святых могут быть устранены, ничуть не нанося при этом ущерб Христу или святым как независимым существам/личностям.
Более того, хотя аристотелевское положение о причине и следствии можно приложить ко Христу как причине, а к иконе с Его изображением — как следствию, или таким же образом к святым и иконам с их изображением, само это положение зиждиться на ложной идее — если говорить более конкретно, то «ложное следствие обусловлено ложной причиной»[392]. Трудно понять, каким образом действие против следствия (иконы) воздействует на причину (Христа или святых).
Тесно связанным с вопросом о натуральных и имитационных иконах, а также взаимоотношении между ними является вопрос о реальном присутствии архетипа в образе. Это учение было выработано для того, чтобы показать функцию имитационного образа.
Giakalis[393] отмечал, что Логос через перевоплощение стал сосубстанционным участником человеческой природы. Он стал видимым в своей человеческой природе и как Таковой может быть изображенным. Имитационный образ (икона), таким образом, имеет непосредственное отношение к двум сферам: человеческой природе и ипостаси архетипа; иными словами, божественный характер и энергия второй Личности Троицы представлена в иконе. Все это, по Giakalis, говорит о присутствии Бога среди людей.
Евхаристическая концепция жертвы была связана с учением о реальном присутствии Господа в евхаристии[394]. Никифор[395], один из защитников икон во время иконоборчества, добавил концепцию, в которой реальное тело Христа во время евхаристии стало рассматриваться как тело, которое может быть представлено в образе. Таким образом, реальное присутствие тела Господня в евхаристии было перенесено на икону, что привело к пониманию о реальном присутствии Божьем в иконе и к допустимости изображения Христа на иконе.
Однако, если внимательнее рассмотреть происхождение такого учения, то становится очевидным, что оно связано с языческим убеждением, которое восприняли и христиане, — о том, что материальные предметы могут быть вместилищем духовной силы, которая может передаваться человеку посредством физического контакта[396]. Византийские христиане унаследовали эти языческие верования и начали применять их к глиняным табличкам и другим материальным предметам; когда они совершали паломничество к отшельникам Стилитам в V и VI веках и притрагивались к объектам, к которым прикасались святые, эти предметы считались «хранилищем силы»[397].
В самом деле, трудно признать «реализм» божественного присутствия в иконе. Как признается сам Giakalis[398], «это постоянство нельзя доказать никоим образом».
Очевидно, что утверждение о присутствии Бога в иконе основано на неправильном понимании Матфея 18:20, где обещание божественного присутствия Иисуса среди Его учеников перенесено на икону. Таким образом, концепция реального присутствия в иконе, судя по всему, относится скорее к области «спекулятивной теософии», чем к истинному учению Библии[399], и представляет реальную возможность для идолопоклонства[400].
Учение о традиции в богословии икон тесно связано с концепцией образа. Эта концепция была создана для того, чтобы оправдывать поклонение образам всякий раз, когда ему не хватало поддержки в Писании и доктрине. Традиция, таким образом, стала связующим екклезиологическим звеном между episteme и praxis[401] таким образом, чтобы можно было оправдать поклонение образам. Мы рассмотрим учение о традиции, его роли и приложении к богословию икон.
2.6.1. Предварительные ремарки
Православная церковь уделяет традиции очень большое внимание. Она сочетает в себе учение, практическое служение и Писание таким образом, что как бы представляет герменевтический «ключ» к толкованию Писания, а также источник власти для екклезиологической жизни. Чтобы понять концепцию традиции, ее власть и значение для богословия икон, необходимо рассмотреть зарождение, распространение и использование традиции в рамках церкви.
Концепция традиции, а также ее роль и влияние во многом обусловлены апостольской традицией[402]. Она была сформирована апостолами Христа и передавалась последующим поколениям христиан через епископов или учителей церкви, которые назначались либо самими апостолами, либо их последователями. Самая ранняя традиция состояла из учения Христа и Его дел как акта Божьего самооткровения, а также литургической практики, которая была широко распространена в апостольской церкви и которую апостолы Христа вверили церкви. Это был «Залог веры», который представлял из себя не какой-то набор нормативного учения и сформулированных верований, а «сам живой факт Христа и Era труда по спасению людей в неразделимом единстве с Его Личностью, Словом и Жизнью», который «исполнил и раскрыл смысл Его самооткровения как Спасителя и Господа в Его церкви»[403]. «Залог веры», очевидно, следует понимать в двух направлениях:
«На самом глубоком уровне это идентично всему спасительному явлению воплощенного, распятого и воскресшего Сына Божьего, но на другом уровне оно идентично истинному восприятию и толкованию Благой Вести в том виде, в каком она сформировалась в апостольском основании церкви[404].»
Этот «Залог веры» отчасти был виден в литургической практике, которая была выражением христианской веры. Нормативный и предписывающий характер традиции выражался в формуле «ut legem credendi statuat lex orandi — «принцип богослужения определяет принцип веры»[405]. Она воспринималась как источник богословского знания, и за ней следовало «безоговорочное и некритичное подчинение episteme по отношению к praxis», а это в свою очередь впоследствии привело к появлению нового метода в церкви, при котором церковь взывала «к своим собственным практике и неписаным традициям, с помощью которых она стремилась заполнить разрыв между Писанием и своим учением всякий раз, когда Писание его не подтверждало»[406].
Неписаные традиции во всей концепции традиции занимают важное место. Считалось издавна, что такие традиции зародились в среде апостолов, а потом были переданы церкви. Они считались «такими же важными в жизни и направленности церкви, как и Писание» — «трехразовое погружение во время крещения, учение о единосущности ипостасей Троицы и молитва лицом на восток»[407]. Более того, некоторые неписаные традиции воспринимались как тайна[408] в том смысле, что они передавались апостолами и как таковые «должны были храниться в строжайшей тайне» — понимание, которое отчасти открыло прямой путь к мистериям и легендам[409].
Вопросу неписаной традиции большое внимание уделял Иреней Лионский в своей борьбе против гностических еретиков, которые заявляли, что обладают истиной посредством viva voce (живой голос/традиция), которая считалась более авторитетной, чем Писание, в силу неясности последнего. Иреней защищал апостольскую традицию, ее значение и подлинность, апеллируя к неписаной традиции, которая передавалась через апостольское преемство и составляла для церкви авторитетную норму. Этот классический пример был выражением «взгляда совпадения» среди отцов ранней церкви, а именно что учение церкви, Писания и традиции совпадают[410].
Позднее св. Василий использовал учение о неписаных традициях[411], их богословскую значимость и авторитет «наряду со значением написанной традиции Писания» основываясь на славословии[412]. Он также развил идею о традиции как приложении к Писанию на основе литургической традиции, которая была важным шагом в оправдании некоторых особенностей и традиций, не имевших оснований в Писании. Подобным образом он сделал различие между догмой, «которая хранится в молчании», и керигмой, «которая провозглашается во всеуслышание»[413]. Этот «приложенческий» богословский принцип, согласно которому принцип молитвы определяет принцип веры, был воспринят ортодоксальной церковью и сыграл существенную роль в богословских спорах, особенно в период иконоборчества. Развитие таких литургических традиций, которые либо не имеют прямого основания в Писании или имеют, но довольно косвенное, привело к тому, что церковь впоследствии приложила к Писанию свои собственные авторитетные неписаные традиции. Это, в свою очередь, привело к тому, что учение церкви приравняли к «учению Писания, так что Писание, где надо было, дополнено традицией[414]» и подкреплено экуменическими соборами, которые представляли верховную власть церкви[415]. Это также привело к восприятию церковной традиции как правомочного богословского источника, равного по своему влиянию и власти Писанию.
Вдобавок убеждение в том, что епископы и учители церкви являются исключительными хранителями традиций и толкователями Писания в силу того, что оказались преемниками апостолов, привело к естественному заключению о том, что за пределами церкви Писание понять вообще невозможно. Отсюда появилось положение о том, что только такие «духовные герои», как епископы или святые, являются истинными «экспертами» в отношении «икономии Христа»[416].
С уходом поколения апостолов и постепенным появлением в церкви разнородных учений стало возрастать давление на церковь с тем, чтобы определить свое учение как апостольское и библейское, а также противостоять аргументам еретиков, которые использовали Писание в качестве доказательства правоты своего учения. Под этим давлением возникла необходимость канонизации Нового Завета в связи с упадком к 150 г. по Р. X. устной традиции[417].
Распространение книг Нового Завета развивалось из апостольской традиции и проходило «в своей истории через разные стадии»[418]. Апостольская традиция, однако, «не умерла, когда появились книги Нового Завета, а осталась в качестве контекста, в котором они прочитывались и толковались»[419]. Церковь приняла самое активное участие в формулировке канона Нового Завета, и именно в данном процессе ее стали воспринимать как институт, который предвосхищает Писание[420] и как таковой обладает исключительным правом толковать Библию[421]. Было даже принято предположение, по которому «церковь могла расстаться с Писанием, но не могла существовать без традиции»[422]. Традиция и Писание таким образом, встали по важности и авторитету в формировании характера церкви на один уровень, хотя традиция при этом, с одной стороны, играла роль толкователя Писания, а с другой — могла иметь с Писанием расхождения[423].
Наряду с заменой «принципа совпадения» «принципом приложения» и ростом количества традиций, которые имели -подтверждения в Писании и были оправдываемы приверженностью к литургии или неписаной традиции, в богословии ранней церкви произошел сдвиг от приверженности к Писанию и основывания церковных традиций на Писании, — практика, которая была характерна для отцов ранней церкви, через богословские споры к патристической приверженности, характерной для последующих столетий. Эта практика стала выражаться в том, что при богословских спорах более поздние отцы церкви стали прибегать к свидетельствам ранних отцов церкви более, чем к свидетельству или основанию Писания.
Santer[424] утверждает, что в течение первых 150 лет существования ранней церкви лишь два источника богословского знания воспринимались в качестве авторитетных: книги Ветхого Завета и апостольская традиция. Таким образом, главная функция апостольской традиции состояла в том, чтобы давать авторитетное толкование Ветхого Завета и учения Христа в том виде, как их воспринимали апостолы. Отцы ранней церкви считались хранителями этой традиции, которым было доверено верное преподавание учения церкви.
Однако в течение последующих веков, под влиянием различных ересей отцы церкви развили метод герменевтики, прибегнув к свидетельству ранних патристических авторов, что привело к восприятию традиции как герменевтического ключа[425]. Это постепенно превратилось в общую практику и закончилось тем, что вместо Библии авторитетом для людей стали собрания патристических текстов[426]. Ефесский собор (431 г. по Р. X.) представляет собой существенный методологический сдвиг от признания в качестве авторитета Писания к признанию таковыми трудов отцов церкви. Это, в свою очередь, создало прецедент, при котором «традиция отцов стала не только авторитетной в формировании богословских диспутов, но и постепенно стала главным в процессе экзегезиса библейского текста» — произошел сдвиг «от превосходства Писания к превосходству церкви и ее традиции»[427]. Таким образом, церковь обрела окончательный авторитет[428] по отношению к Писанию и его учению, такое восприятие церкви уже не предвидело возможность оценки ее традиций со стороны Писания[429].
Такой «высокий» взгляд на традицию, в особенности на ее авторитет и аутентичность, в соответствии с православием происходит от апостольской традиции. Такое положение имело огромное значение для оправдания и существования икон в период иконоборчества.
Ко времени возникновения иконоборчества вопрос о сохранении традиции был неотделим от более широкого восприятия византийского богословия. В связи с возросшим количеством ересей и подделок аутентичных документов, касающихся христианского учения, возникла необходимость переписывать и сохранять труды ранних отцов церкви[430]. Византийские богословы рассматривали самих себя как наследников «богатого христианского наследия прошлого», имеющих «долг и привилегию передавать» его последующим поколениям[431]. Это, в свою очередь, впоследствии привело к стагнации и формализму богословской мысли среди византийских богословов до такой степени, что они стали «поборниками узкого «богословия повторения», результатом которого стала внешняя апелляция к ранним отцам церкви — «авторитетам» и «текстам», которые считались критериями в разрешении богословских споров[432].
Важность традиции и ее авторитета стала очевидной в период иконоборчества. В ответ на утверждение иконоборцев о том, что почитание икон не основано на Библии, что оно не имеет свидетельства ранней церкви вплоть до 300 г. по Р. X. и поэтому не связано с апостольскими традициями, защитники икон говорили, что почитание икон «основано на простой вере и неписаных традициях кафолической церкви»[433]. Более того, они воспринимали неписаную традицию как «самую сильную из всех», имевшую, согласно св. Василию, апостольское происхождение, несмотря на тот факт, что она была все-таки неписаной[434] и основывалась больше на литургии, т.е. на тех ее элементах, которые передавались опять же в неписаной форме.
Впоследствии многочисленные примеры легендарного характера исцеления и чудес, связанных с иконами, их происхождение и связь с апостольскими традициями, были преподносимы защитниками икон, чтобы усилить и дополнить оправдание и защиту икон. Были так называемые «нерукотворные иконы»[435] (ἀχειροποίητος), которые, как верили люди, «появились на свет без участия человека»[436] — подобное поверье, касающееся образов богов, существовало издавна в греческой религии[437]. Наиболее влиятельной и древней из христианских легенд была легенда об Авгаре V, царе Едесском, согласно которой он был исцелен Христом, Чей образ[438] позднее нарисовал личный художник царя[439]. Отсюда становится очевидным, что основанием для существования икон служит традиция, а не Писание[440].
Однако можно задаться вопросом о правомерности православной методологии и ее правомочности по отношению к традиции и Писанию, где нормативным фактором церкви становится традиция, а не Писание, и традиция стоит выше Писания. В то время, как традиция и Писание для христианской жизни одинаково ценны, есть необходимость в том, чтобы подчинять и проверять традиции и «институализированную церковь» на основании Писания, которое обладает окончательным авторитетом, а не наоборот. Кроме того, необходимо задаться вопросом — является ли традиция на самом деле феноменом герменевтики и поэтому ответственность церкви состоит более в том, чтобы интерпретировать Писание посредством обоснованных принципов герменевтики в рамках современных ей историко-литературных средств, нежели постоянно стремиться к подтверждению своего учения только в прошлом, что приводит к стагнации богословской мысли и практики церкви?
Далее, «если существует разница между «Традицией» и «традициями», и «многие переданные традиции из прошлого носят чисто человеческий и случайный характер»[441] по мнению некоторых православных богословов, законно будет спросить, существуют ли какие-то преемственность и продолжение апостольской традиции относительно икон или же поклонение образам представляет некую инновацию в практической жизни церкви, будучи результатом влияния неоплатонических философских идей и «чувственного опыта»[442].
С точки зрения екклезиологии церкви, можно подвергнуть сомнениям взгляд православия на взаимоотношения между церковью и Писанием. В то время, как Писание толкуется в рамках церкви и самой церковью, возникают сомнения относительно того, должны ли те методы герменевтики и интерпретации Писания, которые использует церковь, быть институционными и иерархическими. Более того, в то время, как церковь «имеет право толковать Писание в доктринальных вопросах», она «не имеет никакого права что-то добавлять к нему или изменять его», а также полагаться на «доктрины, независимые от Писания, тайные или общеизвестные неписаные традиции, но только на водительство Святого Духа, здравый смысл и логику»[443]. Очевидно, что церковь как некий институт становится окончательным авторитетом в толковании Писания и, в силу существующей церковной иерархии, такое положение вещей ведет к тому, что отдельный человек за пределами церковной иерархии не может предотвратить какое-либо злоупотребление или неправильное использование Писания церковными властями.
И наконец, гибкость православной церкви и ее нездоровый интерес к неписаным традициям воздействует на понимание практической жизни церкви. Такое положение невольно заставляет задуматься, правомерно ли слишком много внимания уделять неписаным традициям сомнительного характера, касающимся икон, чтобы доказать их апостольский характер и власть там, где им не хватает поддержки в Писании. Соответствующим образом можно поставить вопрос об авторитете Священной традиции, которая заменяет авторитет Писания и формирует основу для существования икон[444].
Отсюда видно, что необходимо искать корни поклонения образам и иконам в развитии екклезиологическо-церковной, а не апостольской традиции[445]. Сейчас мы перейдем к рассмотрению культа Девы Марии и культа святых, которые были связаны с практикой поклонения образам.
2.7.1. Предварительные ремарки
Культ Девы Марии, или культ Богородицы, занимает центральное место в православной практике, а также во всем деле спасения. Чтобы понять положение Девы Марии в православном богословии, необходимо рассмотреть происхождение мариологии, ее развитие в период христологических споров и последующий рост почитания икон.
2.7.2. Происхождение этого культа
Исторические свидетельства показывают завесу молчания вокруг культа Марии первых четырех веков. Kelly[446] утверждает, что здесь нет никаких письменных свидетельств о том, чтобы верующие люди обращались к ней с молитвами, как нет никаких упоминаний о том, что люди верили в ее способность защищать или помогать христианам. Ее роль была видна в контексте всего Божьего плана спасения[447]. Если не считать евангелий, св. Павел упоминает о Марии только один раз, в Послании к галатам 4:4, и отношение к ней ранних апостолов, судя по всему, было таким же — позитивно-молчаливым[448].
Тем не менее, в Одах Соломона, написанных в 150 г, по Р.X., упоминается о том, что Мария обладает силой и властью, будучи «матерью многомилостивой», — такая идея раскрывает гностическое влияние и делает возможным «мистическое служение» и «синкретическое влияние»[449]. Подобным образом, тот факт, что Писание почти не упоминает о Марии, восполняется экстра-библейскими источниками, такими, как апокрифы. Недостаток ясной картины о Марии на основании Писания был восполнен другой «одухотворенной герменевтикой», которая позволила отцам церкви вкладывать в прочтение Писания свой собственный смысл и таким образом преодолеть «противоречие между Писанием и традицией»[450], результатом чего стало доверие неписаным традициям и отличным от Писания источникам, которые никогда не подвергались сомнениям[451]. Апокрифическая литература, историческая достоверность которой сомнительна и ненадежна[452], привнесла многочисленные истории о Марии и чудесах, которые ей приписываются, — «все предполагаемые данные, по общепринятым стандартам»[453]. Эти истории, хотя и не имеющие большого богословского значения, возымели, однако, «сильное воздействие на христианское искусство, на форму проповеди и литургию, которые в свою очередь стали источником богословского знания[454]. Почитание, предписываемое Марии, а также все соответствующие ритуалы и формы литургии сформировали «принципиальное место» для «догматической формулы»[455].
Византийские богословы соединили идеи и утверждения народного почитания со своей литургией и церковным песнопением. Это создало прецедент, при котором популярные верования, служение, истории и даже легенды был и восприняты византийскими богословами и развиты в богословское положение. Отсюда следует, что такой прецедент сам по себе подрывает учение православия об апостольском источнике этого культа.
Позднее, в течение IV века по Р. X. и последующих веков, под влиянием народных течений, касающихся аскетического образа жизни и девственности, тема Марии и ее культа приняла новые формы[456]. Марию стали воспринимать как вторую Еву, но ее поставили выше самой Евы и дали звание последней — «мать всех живущих». Более того, христологические споры выкристаллизовали роль Марии и определили для нее титул — Богородица. Эти соборы, однако, посвящены были не догме о Марии и не ее титулу, а божественным и человеческим качествам Христа и, как следствие, титул Марии носит чисто христологический характер[457].
Ефесский (431 г, по Р.X.) и Халкидонский (451 г.) соборы дали новое вдохновение и поддержку тем кругам в церкви, которые уже поклонялись Марии[458]. В римский календарь были внесены новые праздники, чтобы больше людей привлечь в церковь[459], а многие церкви стали называться в честь «Пречистой Девы»[460]. Таким образом, к VII веку культ Девы Марии «обрел достойное место в византийской религиозной жизни»[461].
2.7.3. Богословские суждения о культе Девы Марии
Православная церковь особым образом почитает Деву Марию. Ее почитают, как «самое прославленное из всех Божьих созданий», более прославленное, чем херувим, и несравненно более славное, чем серафим»[462]. Мария носит звание Богородица, и поклонение ей связано с перевоплощением и подтверждено Ефесским собором[463]. Имя «Богородица» было дано для того, чтобы выразить христологическую, а не мариологическую истину. Ей поклоняются в связи со Христом, и Она представляет свободный ответ на Божий дар спасения — «пример взаимодействия между человеком и Богом»[464]. Она также выполняет посредническую роль там, где Ее воспринимают в качестве посредницы, ведущей верующих ко Христу.
«Мария никогда не изображена на иконе одна — только с Христом. Таким образом, молитва к Ней — это молитва церкви вместе с Ней к воплощенному Сыну Божию... Поклоняющаяся церковь возносит молитву не в адрес «Богородицы», но молится вместе с Ней к Богу, Она является животворящей силой, главной посредницей в этом непрерывном ходатайстве Сообщества святых перед Триединым Богом.[465]»
Позиция и роль, которые придает Марии православная екклезиологическая традиция, предполагает, что Она исполняет функции Христа и Святого Духа. Подразумевается, что Она является той, кто «освящает весь естественный мир», ходатайствует перед Сыном и выступает заступницей на Страшном суде[466] — «вся Ее жизнь и цель жизни посвящены лишь тому, чтобы приводить нас к Нему»[467]. Такое предположение может заставить нас подумать, что Мария занимает положение, если следовать взглядам православия, чуть ли не четвертой Личности Троицы, несмотря на возражения по этому поводу самих православных ученых[468].
Тот факт, что Мария занимает центральное место в православной христианской вере, конечно же, является явным преувеличением и искажением той роли, которая была отведена Марии в Божественном плане спасения. Центром христианской веры является Троица, и «личность Марии интересна постольку, поскольку упоминание о Ней заставляет вспомнить о Боге, поскольку та честь, которую Она действительно заслуживает, заставляет нас воздать славу Богу»[469]. Следовательно, роль Марии можно определить только относительно Христа, после чего Она действительно займет достойное место во всей Божьей икономии.
«Любое преувеличение или набожная сентиментальность по отношению к Богородице, любая литературная банальность или проявление чувствительности на поверку окажутся обыкновенным инфантильным курьезом. Такие заблуждения могут нарушить ту гармонию, которую Бог являет в нашем спасении, а также единство в значении перевоплощения. Равновесие и гармония необходимы во всех наших проявлениях по отношению к Богородице.»[470]
Более того, необходимо помнить, что о той роли в христианской жизни, которую приписывают Богородице, нигде не сказано в Писании, а основана она лишь на литургии и тех песнопениях, которые являются выражением народных верований, основанных на традициях сомнительного характера[471]. Ее роль заступницы основана на таких литургиях, как Литургия Василия Великого или Литургия Иоанна Златоуста, в которых о Ней говорится как о «всесвятейшей, непорочной, благословенной Царице, (Δέσποινα), Богородице-Приснодеве Марии»[472]. В гимне Akathistos Марию даже называют «непобедимым генералом», отталкиваясь от легендарной истории о том, как Она чудесным образом вмешалась в военную битву[473]. Это заставляет подвергнуть сомнению авторитет и историческую достоверность, которая приписывается этой догме, а также поставить вопрос о том, должно ли «почитание Марии скорее основываться на доктрине, нежели на легендах и чувствах»[474]. Кроме того, у кого-то может возникнуть вопрос о том, до какой степени название «Царица Небесная» оправдывается истинной экзегезой и принципами герменевтики, которые, если их приложить к вопросу о Марии, создают лингвистические и богословские проблемы, поскольку получается, что Мария становится практически на один уровень со Христом.
Nissiotis[475] отмечает, что «мариология находится на другом уровне, более экзистенциальном, экспериментальном и профессиональном, чем другие разделы богословия». Отсюда очевидно, что поклонение Марии и Ее положение в большей степени обусловлены Ее женственной природой, материнством и человечностью. Именно такое обращение к Ней как к матери формирует «это естественное тепло, присущее культу Девы Марии», которое в силу Ее женственности «играет определенную роль в набожности, в связи со Святым Духом»[476]. Именно эти качества женственности трогают человека и способны физиологически воздействовать на него до такой степени, что заменяют им образ Бога, Который кажется им далеким и страшным Судьей и гнев Которого Мария, будучи посредницей, может смягчить[477]. Материнский тип близок человеческому сердцу по природе и поэтому более приемлем для «сердец людских, чем непонятный Бог или даже мистический Богочеловек Христос[478].
Это, в свою очередь, выявляет слабость взглядов православия на Бога — в то время как Бог трансцендентен, Он открывает себя посредством безличностных несотворенных энергий. Такая богословская концепция приводит к представлению о Боге, как о ком-то далеком и создает пропасть между людьми, в которой Мария выполняет роль посредника, проявляющего Свою женственность, которой нет у Бога, и таким образом находится ближе к человеку. Как результат, человек видит в Ней помощницу людям, ведущую их к Богу.
Согласно православной традиции, история иконы Марии восходит к св. Луке, который первым нарисовал икону с Ее изображением, что дает православным богословам основание утверждать, что иконография Марии связана с апостольской традицией. Однако Ouspensky[479] отмечает, что не существует «никаких примеров икон, нарисованных св. Лукой», дошедших до наших дней, а из всех существующих икон Богородицы Умиления нет ни одного «примера, который можно было бы датировать ранее X века»[480]. Таким образом, к утверждению об апостольской традиции иконы с изображением Марии следует подходить с огромной долей подозрения.
Мейендорф[481] считает, что христологические дебаты, которые достигли своего пика на Ефесском соборе (431 г. по Р. X.), создали условия для возникновения в народе поклонения образам Христа, Девы Марии и святых. Культ иконы Божьей Матери Одигитрии «воспринимался как защита Константинополя во время правления Феодосия II (408 — 450 г. по Р. X.)». Вера в защитную силу иконы основывалась на легендах, в которых о ней говорилось как о защитнице Константинополя и христианства в целом[482]. Образ сам по себе, как верили люди, обладает божественной силой и поэтому заслуживает почитания.
Отсюда следовало, что икона с изображением Марии была достойна того, чтобы получать честь, которая принадлежит ей ввиду того, что она является Матерью Божьей. Ее звание, Богородица, определяет Ей место ниже Бога, но «определенно... выше, чем у обыкновенного человека и выше, чем у всякого святого»[483]. Следовательно, это означало, что Она не может заслуживать поклонения latreya, которое заслуживает только Бог, но при этом Она обладает больше, чем dulia — почтение, которое воздают святым или иконам с их изображением. Таким образом, чисто технически был определен термин, присущий поклонению Марии, — hyperdulia.
Однако, необходимо поднять вопрос относительно технического различия между различными формами поклонения. Если перед нами икона, изображающая Марию с Христом, то какое почитание должно быть отдано этой иконе, если помнить, что каждая изображенная на этой иконе личность заслуживает отличного друг от друга почитания — Христос как Человек-Бог и Мария как Богородица, Кроме того, возникают дополнительные проблемы относительно взаимоотношений между «техническим богословием и набожностью обыкновенных верующих» — набожностью которая обычно не делает никаких различий и далека от «технического богословия»[484].
И наконец, культ иконы имел особое значение для женщин. Жизнь в обществе, в котором доминирует мужчина как в церковной, так и в мирской жизни, вела женщин к Деве Марии, которая представляла из себя «влиятельный пример женской святости»[485]. Ее близость как матери и женщины, Которой не чужды «беспокойства и страдания, которые Она как мать испытывала за Христа» способствовали развитию культа иконы Девы Марии[486]. Истовость, с которой женщины соблюдали этот культ, особым образом проявилась во время иконоборчества[487].
Исторически культ иконы Божьей Матери совпал с возникновением культа святых и икон с их изображением. Перейдем к рассмотрению культа святых — его происхождению и богословскому развитию.
2.8.1. Предварительные ремарки
Культ святых представляет из себя еще одну церковную традицию, подобную традиции мариологии. И хотя чисто иерархически положение святых ниже, чем положение Марии, культ святых занимает важное место в православном богословии и богослужении, особенно в том, что касается поклонения икон. Помня о том, что о культе святых нигде ничего не сказано в Писании[488], как не подтверждается этот культ и апостольской традицией[489], мы исследуем происхождение, богословское развитие культа и его отношение к иконам в контексте греко-римской среды[490].
2.8.2.1. Влияние язычества
Если смотреть на структуру и форму культа святых, то можно проследить, и не без основания, что культ святых восходит к греко-римским погребальным традициям. Идеализация умерших, судя по всему, была естественной для людей «во времена расцвета Греции и Рима» настолько, что иногда мертвых считали местными героями или полубогами[491]. Ощущение беззащитности в языческом мире, обусловленное мнением об «удаленности богов», а также нужда в защите от злых сил создали еще один прецедент в Древнем мире. Умершие герои или императоры были воспринимаемы как хранители или покровители живых людей, наделенные божественными качествами,[492] — концепция, которая была принята и развита в дальнейшем христианством[493]. Поэтому их захоронения считались священными. Эти верования, в свою очередь, сопровождались различными празднествами, которые считались средством общения с умершим, а также священнодействием, адресованном почившим.
Кроме того, в те времена существовало философское понимание, основанное на учении Плутарха, согласно которому «душа состоит из многих слоев»[494]. Душа воспринималась как некая иерархия слоев: «над слоями, в которых личность сама по себе, непосредственно осознающая, лежит дальнейший слой, «истинная» душа, которая неизмеримо выше той души, которая нам известна, как известная нам душа выше нашего тела»[495]. Каждый человек, или индивидуум, рассматривался как иерархия, пик которой расположен ниже божественного. На этом уровне душа — это невидимый личный защитник, — «daimon, genius, или ангел-хранитель», который защищает и сопровождает человека и к которому этот человек обращается во времена трудностей и невзгод[496].
Эти языческие идеи стали частью растущего «христианизированного» культа мучеников начиная с IV века по Р.Х., когда к власти пришел Константин, чье правление дало толчок развитию культа святых[497]. При всеобщем обращении языческих масс «давление языческого образа мыслей и богослужения проявилось... в церемониях и верованиях, связанных с новым культом мучеников»[498]. Языческие взгляды относительно божественных сил, представленные в религиозных образах[499], и «локализации души в могиле согласно культу останков и захоронений святых», совпадая с христианскими взглядами на святость тела мученика, привели к традиции depositio ad sanctos (депозит святости)[500]. Таким образом, религиозные практика и убеждения людей стали основополагающими в культе мертвых, в особенности мучеников веры, еще до того, как это стала «исповедовать церковь, и даже до того, как этому стали учить богословы»[501].
Кроме того, Константину принадлежит заслуга введения в христианство «языческого учения о святости вещей и мест», а также убеждения в том, что они обладают духовной силой[502]. Martyria, (мавзолеи), которые строились на могиле почитаемого святого, рассматривались как loci — центр, где сходятся Небеса и Земля»[503]. Впоследствии развитие пошло таким образом, что «культ мучеников и могилы мучеников стали считаться собственностью церкви», а смерть каждого из мучеников стала сопровождаться литургическим служением за всех, кто умер в вере[504]. Таким образом, к VI веку по P. Х. культ святых стал считаться устоявшейся церковной традицией, основанной, однако, на исторически недостоверных апокрифических легендах и апокрифах[505].
2.8.3. Богословские предположения
Поскольку появление культа святых во многом было обусловлено апокрифами, «видениями, мечтами и мистицизмом», которые, в свою очередь, сформировали основы для народного богословия, необходимо рассмотреть богословскую подоплеку культа святых[506].
Несмотря на тот факт, что «святые играют» важную роль в «православном богослужении, в богословии им уделялось очень мало внимания»[507]. Их догматическая и церковная ценность была подтверждена Вторым Никейским собором (787 г. по Р.Х.), который провозгласил их такими же посредниками, как и Мария, только ниже рангом[508]. Святые считались обожествленными и наделенными присутствием в их жизни божественных сил настолько, что даже после их смерти их останки могут быть использованы в качестве канала божественной благодати.
Булгаков[509] считает, что святые хотя и являются посредниками, защитниками на небесах и «живыми и активными членами церковного воинства», они не являются посредниками между Богом и человеком. Тем не менее, вникая в православное мнение в отношении святых, можно увидеть, что святые могут быть воспринимаемы как посредники между Христом и людьми, поскольку являются «нашими друзьями, которые молятся за нас, помогают нам в нашем христианском служении и в нашем общении со Христом»[510]. Следовательно, святые, судя по всему, все же являются посредниками. Говоря о духовной свободе, которую святые обретают посредством своих духовных усилий в земной жизни, Булгаков считает их представителями людей перед Богом в молитве, а также инструментами, посредством которых Бог «осуществляет Свой труд»[511]. Таким образом, он излагает учение о посредничестве, поднимая святых до положения и сотериологической роли, схожих с положением и ролью Христа в икономии спасения[512].
Можно также подметить в дополнение, что православие делает ударение на концепцию «общения святых». Считается, что святые принадлежат церкви и проявляют свою силу либо через мощи, либо через иконы, принадлежащие церкви, осуществляя таким образом через них свое реальное присутствие перед людьми. К их человечности и защите взывают в такой же степени, как если бы они сами присутствовали перед молящимися в качестве защитников от «страшного суда Божьего», подобно Божьей Матери[513]. Такое положение, если довести его до логического конца, ставит между Богом и людьми святых, а не Христа. Иконы с изображением святых поэтому становятся неким каналом общения со святыми, облекая верующего в некую оболочку защиты и окружения святыми.
Однако православие не поясняет ни «природы контакта с умершими», ни понимания того, в силу чего «они слышат все молитвы, с которыми к ним обращаются верующие»[514]. Это, в свою очередь, ставит под вопрос сотериологическую роль святых.
Pelikan[515] считает, что защита мариологии «способствовала защите культа других святых в том виде, как они были изображены на иконах». За изображением Марии на иконах и верой в ее посредническую роль и способность защитить верующих последовал процесс изображения на иконах и всех остальных святых[516]. Иконы с изображением святых позднее стали рассматриваться как невидимое присутствие самих святых, невидимые помощь и защита для людей, живущих на земле. Иконы стали «местом встречи живых членов церкви с теми, кто уже умер раньше»[517].
Более того, православие воспринимает иконы святых как своего рода каналы связи с божественными энергиями. Giakalis[518] приписывает святым и иконам с их изображением два типа энергии. В то время как святые участвуют только в «очищающей, освящающей, просвещающей и обожествляющей энергии», иконы с их изображением участвуют в «очищающей, освящающей и просвещающей энергии» Бога. Если это так, тогда непонятным становится разделение и базис для различных типов энергии[519]. Получается, что икона с изображением святого обретает два типа энергии: энергию святого и энергию иконы.
И наконец, влияние языческих идей относительно божественного присутствия и священных мест, смешавшись с идеями неоплатонического характера, зачастую приводили к чистому идолопоклонству[520] в истории христианства[521]. Недостаток богословской ясности и надлежащего учения относительно использования икон в высшей степени проявился в иконоборчестве. Мы перейдем к рассмотрению развития богословских концепций и идей, возникших в эпоху иконоборчества.
2.9. Иконоборчество: богословское развитие
2.9.1. Предварительные ремарки
Развитие богословия иконоборчества проходило через два периода иконоборческих споров. Мы рассмотрим богословские вопросы в том виде, как они существовали с период первого (725 — 802 гг. по Р. X.) и второго (813 — 842 гг. по Р.Х.) периодов иконоборчества. После этого мы представим сходства и расхождения во взглядах иконоборцев и почитателей икон.
2.9.2. Первый период иконоборчества
Первые активные действия иконоборцев относятся ко Бремени правления Льва III. Иконоборцы стали выдвигать обвинения в идолопоклонстве — поклонение образам рассматривалось именно как идолопоклонство, характерное для язычников[522]. Вторая заповедь закона Моисея и другие запреты Писания, направленные против идолопоклонства, служили основой для выступлений иконоборцев против использования образов[523]. Кроме того, иконоборцы прибегали к авторитету отцов и историческим источникам, которые подтверждали обоснованность их обвинений в идолопоклонстве.
Почитатели икон искали обоснование поклонению образам, прибегая к различным приемам экзегетики, к авторитету отцов церкви и традиции, которые поддерживали поклонение образам[524]. Идолопоклонство было невозможным с тех пор, как Христос пришел на землю и упразднил идолопоклонство. Следовательно, любое богослужение, в какой бы форме оно ни проводилось, даже через материальные каналы может вести людей только к Богу — это производная от учения Платона, которой язычники пользовались для защиты своих собственных образов и статуй, которые они считали символами божественного, но не самими богами[525]. Делалось также различие между поклонением Богу (latreia) и относительным поклонением (proskinesis) иконам или людям. Таким образом, идолопоклонство воспринималось почитателями икон «как конкретный факт, а не как образ мыслей», и, по их мнению, оно могло существовать только среди язычников и потому не представляло собой обвинения для христиан[526].
Кроме того, иконоборцы выдвигали аргумент этического характера против идолопоклонства перед иконами и образами. Они утверждали, что необходимо подражать добродетели святых как «живых образов» и изучать Писание наряду с жизнью святых, а не слепо поклоняться их образам[527]. К образам иконоборцы подходили с духовной точки зрения, утверждая, что верующий в своей жизни должен подражать Христу и святым, что, в свою очередь, подразумевает духовное поклонение. Таким образом, «этический аргумент иконоборцев»... был «сильным аргументом в их пользу»[528].
Далее, иконоборцы выдвигали аргумент христологического порядка. Константин V представил учение о выразимости и невыразимости, подчеркивая божественную природу Христа. Лингвистические отношения между «неизобразимым» и «не подлежащим изображению? дали свидетельство в пользу того, что Христос, будучи Богом, не может изображаться каким бы то ни было образом в силу Своей божественной природы, которая не подлежит изображению. Божественная природа, «соединенная с плотью» и Его «личность (prosopon), или субстанция (hypostasis), неотделима от двух природ» и поэтому подразумевает тот факт, что изображать Христа невозможно[529]. Картина, таким образом, представляет либо божество, следуя путанице монофизитов относительно природы Христа, либо изображение человека, выступая, таким образом, поборником несторианства.
Почитатели икон в ответ сделали ударение на различии[530] между theologia и oikonomia таким образом, чтобы представить Бога апофатически, через отрицание, а Божье откровение — через перевоплощение[531]. Они утверждали, что перевоплощение дало людям возможность изображать божественную природу Христа в том виде, какой у Него был при Его земной жизни, — sub spiece incarnationis, и «когда Слово стало плотью, Он, как следствие, тоже обрел плоть»[532]. Таким образом, законность изображения Бога в видимой форме через тело Христа уже распространилась за пределы воскресения Христа, а это, в свою очередь, узаконило создание образов.
Почитание икон с изображениями святых было оправдано посредством аналогии. Святые воспринимались как «воинство друзей Христа», и им поклонялись «на принципах, согласно которым подданные монарха почитают своего монарха»[533]. Таким образом, почитатели икон использовали метод аналогии, чтобы оправдать свою позицию.
Кроме того, св. Иоанн Дамаскин разработал характер и природу образа, а также его отношение к оригиналу[534]. Его концепция строилась на платонизме, который был представлен в качестве некой «лестницы откровения», где видимые образы невидимого были неким непостижимым образом наделены сакральной добродетелью невидимого, которое представляло его метафорически посредством веры или посредством ипостатической идентичности[535].
И наконец, почитатели икон обращались к традиции и авторитету отцов церкви, как это делали и иконоборцы. Здесь они использовали отдельные цитаты, неписаные традиции, причем так, что они становились авторитетными источниками, подтверждающими аргументы почитателей икон[536]. К Писанию они прибегали для того, чтобы показать применение материальных вещей в богослужении и как таковое не отвергало упрек иконоборцев в том, что в Писании ничего не говорится о почитании икон.
Богослужение, таким образом, было одним из главных вопросов иконоборчества. Использование материальных предметов в богослужении и значение самого богослужения были теми вопросами, в которых иконоборцы и почитатели икон расходились. В то время как иконоборцы настаивали на том, что необходимо поклоняться Богу «в духе и истине», почитатели икон выработали идею использования в богослужении материальных предметов. Если первые первостепенное внимание уделяли Писанию и в качестве материальной помощи богослужению допускали только евхаристию, то последние выдвигали философские, неоплатонические идеи[537] относительно взаимоотношений между образом и его оригиналом, а также использовали некоторые отрывки из Ветхого Завета[538]. Однако принципы и методы герменевтики, которыми пользовались почитатели икон, на поверку выглядят весьма сомнительными. По сути, они проигнорировали тот факт, что функция тех материальных предметов, которыми пользовались в Ветхом Завете для поклонения Богу, совершенно отличны от функции икон в богослужении периода иконоборчества.
2.9.3. Второй период иконоборчества
Второй период иконоборчества уже не был таким важным, и он представлял из себя лишь продолжение тех вопросов, которые поднимались в период первого иконоборчества, — перевоплощение и природа взаимоотношений между изображением и его прообразом.
Против упреков иконоборцев, в частности, в том, что образы не содержат в себе никакой божественной атрибутики или энергии, почитатели икон — сторонники Феодора Студита выдвинули следующие предположения. Образы, хотя и различные по природе, несут в себе одно и то же тождество и обладают сами по себе относительной божественностью через Божий энергии, из чего следует, что «изображение или образ сами по себе содержат природу оригинала»[539]. Это, в свою очередь, делало обоснованными упреки иконоборцев в том, что, по мнению почитателей икон, образы обладают «квазимагической силой»[540].
Эта сила передается человеку через иконы. Образы Марии и святых были представлены Никифором, как «посредники между Богом и людьми таким же путем, как люди общаются с императором через имперских чиновников»[541]. Однако Феодор разделял иерархию образов в качестве системы спасения, внеся, таким образом, инновацию в вопрос Божьего плана спасения. В то время как процедура с представителями имперского двора сама по себе правильная и представители действительно выступают здесь в роли посредников, правила божественной икономии совершенно другие — они связаны с Откровением Божьим в лице Иисуса Христа. Следовательно, данная аналогия абсолютно неуместна.
2.9.4. Области согласия и расхождения
Обе стороны выражали свою верность культу Марии и святых[542], а также присутствию Крови и Тела Христа во время евхаристии[543]. Они также в одинаковой степени обращались к авторитету Писания, отцов церкви и традиции, используя похожие методы герменевтики и экзегетики[544].
Проблема, однако, возникала вокруг определения евхаристии и вопроса о том, может ли «реальное присутствие в евхаристии» и «сакраментальное посредничество божественной силы» распространяться на другие материальные объекты, например образы?[545] Кроме того, хотя и иконоборцы, и почитатели икон верили в то, что «образ тесно связан со своим прототипом... разногласия возникали в вопросах природы этой связи»[546].
Что касается христологии, то дифференциация почитателей икон между оузией и ипостасью, а также между образом и его прототипом не отвергала упреки иконоборцев в разделении двух природ Христа. Negrut отмечает, что божественная и человеческая природы Христа гипостатически объединились в процессе перевоплощения, и поэтому невозможно смешивать ни одну из природ Христа[547]. Это, в свою очередь, подразумевает, что ипостась Христа не существует в «неперевоплощенном» виде, то есть отдельна от Его оузии.
Negrut утверждает, что обе стороны стремились представить себя «истинными продолжателями традиций апостолов и отцов церкви»[548]. Однако никто из них «не разделял общего критерия различия между ними»[549]. Причиной тому было различие в их подходах к Писанию и традиции, поскольку свое влияние возымели здесь «особенные богословские взгляды относительно различия между иконой и идолом, отношения между иконографией и христологией»[550].
Более того, методологически как иконоборцы, так и почитатели икон следовали одному и тому же критерию истинного христианства — «верности традициям апостолов и отцов церкви»[551]. Проблема, однако, состояла в отделении апостольской традиции от более поздних церковных традиций и традиций отцов, а также в установлении убедительного критерия для идентификации апостольскои традиции[552].
В позициях теории познания (epistetme) и богословия (theologia) иконоборцы и почитатели икон придерживались различных методов — исходили из разных отправных точек, использовали различную терминологию и приходили к разным позициям относительно христологии. Об иконоборцах и почитателях икон можно говорить как о противоположных концах халкидонской христологии. В то время как первые делали ударение на божественную природу Христа и соответствующий духовный характер богослужения, последние подчеркивали человечность Христа и богослужение, адресованное прежде всего Богу через человечество и, как следствие, через материальные предметы. Иконоборцы, судя по всему, следовали образцу духовного богослужения Ветхого Завета и апостольской церкви, в то время как почитатели икон представляли «смесь» христианского богословия, греческой философии, верований и традиций, которые стали частью христианского богослужения в период, предшествующий иконоборчеству. Отсюда очевидно, что обе стороны представляли две различные богословские традиции. Если иконоборцы придерживались принципа, согласно которому «чем древнее, тем достовернее» и, следовательно, законно и ближе к Писанию, то почитатели икон придерживались положения двух принципов — «живой традиции», которая восприняла иудейско-христианские традиции и «христианизированных» философских идей Древней Греции, которые стали составной частью богословия и воспринимались в свете жизни церкви[553].
И наконец, эпистемологическую брешь между двумя этими сторонами невозможно заполнить, не рассмотрев оба взгляда на христологию и не соединив их конструктивно, что, конечно же, подразумевает и изменения в практической жизни церкви.
Философские идеи Платона, прошедшие через неоплатонизм, стали составной частью богословия икон через развитие христианской догмы. Философия оказала воздействие на все христианские догмы, имеющие отношение к Божьему особому и общему откровению. В процессе христологических споров и дебатов о Троице вопросы знания Бога и доступности божественного обсуждались как в богословских, так и в народных кругах. Философские идеи использовались для того, чтобы поддержать концепции образа и тем самым восполнить отсутствие поддержки со стороны Писания, используя эти идеи в пользу икон и практической жизни церкви. Такие идеи были также приняты отцами церкви для того, чтобы объяснить взаимоотношения между Богом и человеком.
Развитие апофатического (негативного) богословия представило в более полной форме учение о божественном превосходстве (удаленности, трансцендентальности). Такая богословская герменевтика привела к определенному учению об откровении Бога и возможности общения с Ним через учение о несотворенных энергиях через общее (Творение), а не особое откровение (Христос). Перевоплощение Христа породило вопрос об обожествлении человека. Это, в свою очередь, высветило важность доктрины творения, особенно материального мира, а это, в свою очередь, повлияло на особенности, praxis и богослужения в церкви. Таким образом, апофатическое богословие вскрывает слабости православного богословия по отношению к иконам, в котором сотериологические функции каждой личности Троицы остаются неясными, и эта «брешь» в результате заполняется другими посредниками: безличностными несотворенными энергиями и более личностными Богородицей, святыми и иконами.
Отсутствие истинного критерия и анализа в отношении процесса становления истинной апостольской, а позднее и екклезиологической традиции способствовало появлению подделок герменевтического сдвига, который выразился преимущественно в обращении к авторитету отцов церкви, а не к авторитету Писания. Это развитие, совпавшее с появлением практики и верований языческого прошлого, которые также были восприняты христианством, чтобы выразить народное богословие, дало толчок развитию екклезиологического культа Богородицы и святых, а оно, в свою очередь, открыло путь к возникновению культа икон.
Существование противоречивых традиций внутри церкви, различные принципы герменевтики и экзегетики относительно толкования Писания, а также случаи суеверия и идолопоклонства по отношению к образам привели к возникновению иконоборчества. А оно привело к кристаллизации философских концепций, авторитету церкви, равно как и высветило сильные (христология) и слабые (сотериология) стороны православного богословия.
Глава 3
Библейское учение и икона
3.1. Ветхий Завет и Новый Завет
3.1.1. Предварительные ремарки
Тот факт, что православие подчеркивает аспект перевоплощения как основу богословия икон, поднимает ряд вопросов. Первый касается природы взаимоотношений между Ветхим и Новым Заветами и их связи с богословием икон. Второй касается того, каким образом отцы церкви пользовались Писанием в период иконоборчества, а это, в свою очередь, поднимает вопрос о методе и законности принципов герменевтики и экзегетики, используемых для построения и поддержки богословия икон. Третий касается того факта, что православие подчеркивает важность чувства зрения, которое исходит из учения о перевоплощении и заставляет исследовать значимость этого чувства в деле спасения во свете библейского откровения. Эта глава посвящена упомянутым выше вопросам, связанным с богословием икон, в том виде, как они представлены в трудах православных богословов, а также оценке их метода и его правомерности с точки зрения современной герменевтики и экзегетики.
3.1.2. Взаимосвязь и разрыв
3.1.2.1. Ветхий и Новый Заветы
Выступление почитателей икон против использования иконоборцами locus classicus, второй заповеди в качестве законного основания запрета на изготовление икон поднимает проблему авторитета учения Ветхого Завета по отношению к Новому Завету, к praxis церкви и богослужения в ней[554]. Запреты Ветхого Завета (Исход 20:4 и Второзаконие 4:14-19, 5:7-8, 12-12) на образы воспринимаются защитниками икон как «временные, педагогические меры, которые касаются только Ветхого Завета, но которые не являются запретом в теории»[555]. Эти запреты касались только невидимости Бога и идолопоклонства среди евреев в Ветхом Завете[556]. К данному учению, которое поддерживали и защищали такие защитники икон, как св. Иоанн Дамаскин и св. Феодор Студит, добавили дополнительную идею об отсутствии взаимосвязи между Ветхим и Новым Заветами[557]. Кроме того, св. Иоанн и св. Феодор в своем подходе к Ветхому Завету использовали аллегорические методы толкования — в особенности когда вопрос касался запретов на образы — в ущерб буквальному значению и историческому контексту этих мест Писания[558]. Более того, различие между Ветхим и Новым Заветами делалось таким образом, что первый рассматривался как эпоха закона, а последний — как эпоха благодати[559]. Такое разделение лишний раз подчеркивало отсутствие целостности, преемственности между Ветхим и Новым Заветами, подразумевая, таким образом, что запреты Ветхого Завета с богословской точки зрения не имеют никакого значения и отношения к богословию Нового Завета и, вполне естественно, совершенно неприменимы к иконам[560].
Такое понимание значимости учения Ветхого Завета и приложение этого понимания к богословию икон выглядит слишком упрощенным и тенденциозным со стороны защитников икон. Приверженцам такого взгляда не хватает систематического подхода к взаимосвязи между Ветхим и Новым Заветами, при котором богословие икон можно понять только во свете взаимоотношения между двумя Заветами во всей его полноте и сложности. Очевидно также, что запреты Ветхого Завета составляют важный фактор библейского богословия в целом и касаются также богословия икон.
Baker[561] считает, что взаимоотношения между Ветхим и Новым Заветами основаны на исторической преемственности, равно как и на лингвистических, литературных, социологических, психологических, этических и философских концепциях и сходствах, которые составляют всю Библию. Тот факт, что Новый Завет «исторически позднее», подразумевает идею о том, что он «в определенной степени происходит из Ветхого Завета»[562]. Ветхий Завет представляет характер Бога как реального, но скрытого от очей, общающегося с человеком посредством слов и дел, — Бога, который совершает труд искупления израильского народа. Он действует исходя из благодати и в согласии со Своей божественной волей дает в будущем надежду на Свое реальное присутствие среди Своего народа.
Из этого следует, что «в Библии есть важное единство — единство, которое исходит из истории одного народа, в котором Бог раскрыл Себя»[563].
Тема надежды и Божьего участия в судьбах людей в Ветхом Завете является главным аспектом богословия Ветхого Завета, которая «закладывает богословскую основу для Нового Завета и полностью раскрывается во Христе, который приходит в период «между Заветами»[564]. Приход Христа воспринимается как кульминация ветхозаветных надежд на будущее и объясняет Ветхий Завет точно так же, как Ветхий Завет указывает на приход Христа. Таким образом, «как Ветхий Завет смотрит вперед на Новый, точно так же и Новый Завет смотрит назад на Ветхий»[565].
Однако довольно парадоксально, что приход Христа представляет собой момент разрыва преемственности между Ветхим и Новым Заветами. В то время как Иисус неотделим от Своего еврейского происхождения и воспитания и «воспринимать Его исторически необходимо только в иудейском контексте», подтверждающем «взаимосвязь иудаизма с христианством», Он, тем не менее, является началом новой эпохи и новой сущности — Церкви[566]. Книги Нового Завета показывают свою неразрывность с более старыми, историческими традициями, но толкование этих традиций, «следующих примеру Самого Иисуса Христа, представлены оригинально и творчески»[567]. Точно так же, если главной темой Ветхого Завета является Израиль как сообщество, Новый Завет в первую очередь говорит о Христе как о Личности и о Церкви — новом сообществе Божьих людей. Церковь воспринимается как «Израиль Божий» (Галатам 6:16), а каждый человек во Христе — как «новая тварь» (2 Коринфянам 5:17). Таким образом, с одной стороны, церковь Нового Завета исторически связана с Израилем Ветхого Завета и является его продолжением, но, с другой стороны, существование Церкви, ее происхождение и геополитический статус показывают отсутствие подобного рода преемственности.
С богословской точки зрения, взаимоотношения между Ветхим и Новым Заветами характеризуются как преемственностью, так и разрывом. История спасения — обетовании и исполнений, — которая проходит через весь Ветхий и Новый Завет, показывает в основе одну веру, в которой верования и убеждения Ветхого Завета являются не просто основой для Нового Завета», но и «частью того, что Новый Завет рассматривает вполне естественным с точки зрения богословия»[568]. Если веру Ветхого Завета можно рассматривать как «предшествующую христианской», вера Нового Завета не является «противоположностью» вере Ветхого Завета, несмотря на отсутствие преемственности в лице Христа. Различие между Заветами следует понимать как различие в ударении на различение темы, но не как различие в происхождении[569].
Появление закона в Ветхом Завете показывает принцип, на основании которого Бог строит взаимоотношения с Израилем в Ветхом Завете и впоследствии с церковью в Новом Завете. Этот закон содержится в отношениях завета между Богом-Яхве и Израилем и, будучи основан на божественной инициативе[570], подчеркивает богословские принципы Ветхого Завета — «благодать предшествует закону»[571]. Благодать, таким образом, не просто составляет основу этики и закона Ветхого Завета в целом, но и представляет «принцип», который проходит «через нравственное учение всей Библии», а также историю искупления, где «сначала идет Божья благодать», и только потом «ответ человека на нее»[572]. Закон — это дар Божьей благодати, который Бог дал Израилю по завету со Своим народом и который не является концом сам по себе, но скорее является путем к "знанию Бога" через личные взаимоотношения завета»[573]. Взаимоотношения завета, в особенности «преемственность взаимоотношений между Богом и Его народом, и природа этих взаимоотношений представляют жизненно важную связь между «статусом закона в Ветхом Завете и его применением, особенно в том, что касается Десяти заповедей, в Новом»[574]. Отсюда следует, что «закон имеет неизменную богословскую и этическую законность... в связи с тем, что он выражал и на что он указывал в будущем… — искупительные отношения завета с Богом»[575]. Это, в свою очередь, подразумевает, что существует взаимосвязь/разрыв «в библейской этике по отношению к закону, которая схожа с взаимосвязью/разрывом «в библейском богословии по отношению к искуплению[576].
Новый Завет представляет человеку возможность обрести близкие взаимоотношения завета с Богом через Христа, о котором предсказывает Ветхий Завет. Отношение Христа к закону Ветхого Завета двоякое: и утвердительное, и в то же время отрицательно-оригинальное, что подразумевает и взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветами, и разрыв. Учение Иисуса основано на ветхозаветной системе закона и само по себе представляет суть или позитивное содержание, которое позволяет «исполнить закон сполна» (Матфея 5:17)[577], и, являясь «концом закона», оно, тем не менее, не является «концом заповеди»[578]. В то время как Христос поддерживает ветхозаветный взгляд на правильные действия, Он делает большее ударение на правильный подход и «внутреннее побуждение»[579] сознания верующего, расширяя таким образом рамки закона и вознося его на новый уровень, при этом внося в закон новый смысл, открывая «более высокие концепции долга, которые лежат в основе закона»[580].
Более того, Сам Иисус осуществляет роль слуги. Именно от Него ожидают, что Он принесет свет людям и знание о Боге всему остальному человечеству (Исайя 42:1-7; 50:4-11; 52:13-53:12). Когда Иисус давал понять, что все эти стихи относятся непосредственно к Нему (Матфея 8:17; 12:18-21; Марка 10:45; Луки 4:18,), тем самым Он утверждал, что взял на Себя ту роль слуги, которую Израиль в истории спасения осуществить не смог[581]. Церковь, таким образом, как новый Израиль представляет из себя законного «духовного наследника» (Луки 22:29; Римлянам 4:16; Галатам 3:14,26-29; Ефесянам 2:11-22; 3:6; 1 Петра 2:4-10) в деле спасения в этом мире, выражая в новозаветных отношениях характер Бога и Его планы в отношении к этому миру[582].
В то время как христианин больше не находится «под законом» (Римлянам 3:19; 6:14) и не живет в соответствии с требованиями закона Ветхого Завета, он, тем не менее, «не чужд закону» (1 Коринфянам 9:21). Он должен жить «согласно Духу», Который дает верующему силы отвечать «праведным требованиям закона» (Римлянам 8:4) посредством любви, которая является исполнением закона (Римлянам 13:8-10)[583]. Взаимосвязь/разрыв преемственности между Ветхим и Новым Заветами воспринимается не как контраст между законами Моисея и Иисуса, а как «одна Божья воля, которая частично понимается через закон Ветхого Завета и более полно понимается через учение Иисуса»[584].
3.1.2.2. Нравственное значение ветхозаветного закона
Отвержение православной церковью во время иконоборчества, а также современными богословами второй заповеди как законодательной основы против почитания икон поднимает вопрос о ценности и легитимности закона Ветхого Завета[585]. Вдобавок возникает вопрос о толковании этой заповеди. Она воспринимается как запрет, имеющий отношение только к невидимой природе[586] Бога и следовательно к невозможности описывать божество в какой бы то ни было художественной форме, а также как предостережение в адрес иудеев против идолопоклонства, таким образом относящееся только ко времени Ветхого Завета[587]. Исходя из этого получается, что такая интерпретация игнорирует один важный аспект ветхозаветного закона, а именно его нравственную и этическую значимость и ценность для Нового Завета и богословия икон[588].
Во-первых, необходимо помнить, что этика Ветхого Завета неотделима от закона Ветхого Завета, который существует в пределах преемственности/разрыва преемственности между Ветхим и Новым Заветами. Он тесно связан с особенной исторической и культурной ситуацией, а также с религией Израиля. Природа взаимоотношений в рамках завета между Богом и Израилем и избрание последнего предполагают его статус и поведение по отношению к Богу и окружающим народам. Однако культурный и исторический контекст появления закона не исключают возможность того, что он является конкретным проявлением некоторых принципов[589], которые предписывают подчинение в соответствии с «его главными моральными принципами, которые не являются специфичными для определенной культуры»[590]. Особенность данных Богом заповедей и законов, выраженная в специфический период истории искупления Израиля, показала Божью волю, раскрытую особым образом и формирующую принцип или парадигму последующей «этической конструкции»[591]. Таким образом,
«все заповеди Ветхого Завета необходимо рассматривать в связи со спецификой обстоятельств, все должны быть рассматриваемы во свете прихода Христа, но все они могут носить инструктивный характер сегодня, во свете тех принципов, которые они олицетворяют»[592].
Более того, этика Ветхого Завета основывается на Боге, Который требует со стороны человека послушания и предполагает «религиозную и этическую особенность» Израиля[593]. Бог Ветхого Завета является тем, Кто берет инициативу первым, — инициативу в деле исполнения Своего плана искупления всего мира через Израиль на основе Его благодати. Это, в свою очередь, ведет к исключительному поклонению Ему одному — заповеди при этом имеют универсальные ценность и значимость.
Wright[594] отмечает, что запрет на образы умерших и идолов был дан не по принципу сравнения — в частности, идолы и образы материальны, в то время как Бог духовен, образы и идолы видимы, а Бог невидим. Речь здесь идет о субстанции и сути Божьей природы — Тот, Кто «жив, активен, Кто говорит», несовместим с «безжизненными, бессильными и немыми» богами и образами[595]. Таким образом, данный запрет был «глубоко нравственной заповедью», которая подразумевала правильное понимание Бога, «поскольку ложное понимание Бога неизбежно разрушает и главную основу этики. Только живой Бог истории может инициировать, формировать и мотивировать нравственную жизнь своего народа»[596].
Такое понимание, очевидно, связано с доктриной творения и искупления в больших масштабах, чем просто историческая нация Израиля. Последствия грехопадения, приведшего к нравственному разрушению человека, создали прецедент идолопоклонства не только для Израиля, но и для всего человечества. Природа и цель избрания израильского народа, когда этот народ был избран в качестве средства искупления всего мира, имеет универсальное значение через те законы, которые были даны израильскому народу[597]. Бог Ветхого Завета, Чье самооткровение не имело той формы, которую затем можно было бы имитировать», но состоявшее только из слов, которым необходимо было подчиняться как выражению воли Того, Кто лично отвечал на призыв Своего народа и лично действовал... для их блага», требует исключительного поклонения только Ему одному[598]. Эти запреты, таким образом, отражают предостережение против идолопоклонства[599] — «фундаментальной проблемы человеческого существования»[600] не только для евреев[601] и являются этически вескими и реальными как в Ветхом, так и в Новом Заветах, поскольку выражены в законах Ветхого Завета и позже в учении Иисуса и Павла[602].
Следовательно, православие рискует упустить один важный момент[603]. Этот запрет (вторая заповедь) был дан после грехопадения и был связан с греховностью человека, что привело к тяге человека к идолопоклонству и как таковое имеет универсальное значение. Идолопоклонство остается реальной опасностью для praxis, связанного с использованием икон.
Вдобавок упор православной церкви на вопрос о перевоплощении как начальный пункт богословия икон поднимает вопрос о методах толкования Писания.
3.2.1. Предварительные ремарки
Авторы Нового Завета сталкивались с проблемой соотношения между Христом, словами и событиями, записанными в Ветхом Завете, и толкованиями событий Нового Завета во свете Ветхого Завета, который рассматривался как основа веры Нового Завета. Авторы Нового Завета использовали типологию, которую использовал Сам Христос и которая применялась в еврейской традиции толкования[604]. Однако позднее, под давлением и влиянием греко-римской культуры, церковь была вынуждена найти свое собственное лицо и доводить до людей авторитет Писания удобным способом, используя местные условия и методы толкования, которые выражались главным образом в аллегории[605]. Таким образом, произошел значительный сдвиг в герменевтике от типологического толкования авторов Нового Завета к аллегорическому методу толкования, который мы находим в патристических трудах.
Мы рассмотрим происхождение толкования, его развитие и использование отцами церкви по отношению к богословию икон.
3.2.2. Исторический обзор
Это толкование восходит к греческой культуре VI века до Р. X., когда «антропоморфические описания Гомером богов и их распущенное поведение» толковались и объяснялись более широкому кругу людей посредством аллегории[606]. Принято было понимать, что первоначальный текст говорит не то, что в нем должно быть сказано, но что он «содержал более глубокий смысл, не видимый на поверхности»[607]. Это учение было усилено учением Платона относительно истинной реальности, согласно которому истинная, духовная реальность кроется за эмпирическими чувствами и более «значима, чем физические и исторические аспекты человеческой жизни», в которой последние являются «лишь тенями» и «бледным отражением реальности»[608]. Такой принцип использовался в литературе, где истинное значение текста скрывалось за написанными словами и самим текстом, «служившим в качестве расширенной метафоры, указывающей на идеи, скрытые за ним»[609]. Эти идеи были восприняты иудейским мыслителем Филоном, который применил их в толковании еврейских Писаний.
Филон является неким «мостиком» между платоновскими философскими традициями и христианским толкованием Писания. Б своих попытках «примирить иудейские Писания с философией Платона» Филон использовал аллегорический подход как метод толкования[610]. Следуя идеям Платона и стоиков об истинной реальности[611], Филон понимал текст Ветхого Завета небуквально — это означало, что истина текста скрыта и ее нужно раскрыть посредством аллегорий[612]. А это, в свою очередь, означало, что исторический и литературный смысл текста не играл большой роли и единственным истинным значением текста было духовное/аллегорическое[613].
Baker[614] считает, что типология «является доминирующим и характерным методом толкования взаимосвязи между Новым и Ветхим Заветами» и что авторы Нового Завета пользовались ею, чтобы привнести сходства и различия в параллели Ветхого Завета с Иисусом относительно спасения[615]. Типология используется таким образом, чтобы показать соответствие между историческими событиями и Божьим спасением в истории Израиля в том виде, как оно представлено в Ветхом Завете, и привнести в Новый Завет духовное значение или основополагающий принцип. Таким образом, типология имеет дело с историческими фактами и представляет «не метод филологического или текстуального изучения, а метод понимания истории»[616].
Апостолы, следуя примеру Христа, использовали типологический метод для того, чтобы показать, что события и идеи Ветхого Завета, касающиеся Божьей деятельности, повторялись или находили свою кульминацию в Новом Завете. Это было обусловлено необходимостью «убедить апостольских Иудеев первого века в сходстве между идеями и событиями Ветхого и Нового Заветов», а также «показать христианство в качестве истинной кульминации учения ветхозаветного поклонения»[617].
Кроме того, Ветхий Завет истолковывался посредством приложения дословно-контекстуального и принципиально/приложенческого подхода. Эти методы апостолы использовали в своих наставлениях, касающихся христианской морали и желания приспособить учение Ветхого Завета через основополагающие принципы к новой ситуации, «особенно когда приходилось защищать мессианство Иисуса и служение христианской церкви»[618] против обвинений иудеев[619].
3.2.2.4. Патристический период
С ростом христианской миссии, которая выходила за пределы Иудеи, и возникновением групп еретиков внутри церкви в последующие века возникла необходимость защищать Благую Весть от еретиков а также от нападок язычников. Чтобы противостоять еретикам, церковь была вынуждена прибегнуть к авторитету апостольской традиции, поскольку канонов Нового Завета в то время еще не было. Отсутствие критериев относительно толкования Писания компенсировалось идеей апостольского наследия, которое определяло руководителей церкви как истинных толкователей Писания и привело к возникновению традиционного толкования. Эта концепция была усилена соборами церквей, которые определяли официальную доктрину церкви, а также «придавали церковной традиции гораздо больше значения, чем когда-либо до этого»[620]. Авторитет традиции и официальных установлений церкви относительно доктрины стали выше авторитета Писания и определяли толкование Писания. Традиционное толкование, таким образом, означало, что толкователь должен был подтверждать взгляды отцов церкви, которые содержались в их комментариях и передавались в течение веков последующим поколениям, а также подтверждать доктринальные нормы церкви. Кроме того, упор на традицию был вызван отсутствием четкого критерия и методов толкования — следствие возникновения двух разных школ толкования. Александрийская школа, строившаяся на традициях неоплатонизма, была основана Клементом Александрийским и его последователем Оригеном, взгляды которых находились под влиянием Филона[621]. Эта школа использовала аллегорические методы толкования в соответствии с неоплатонической схемой, которая подчеркивала скрытый духовный смысл текста и призывала читателя или толкователя «идти от буквального смысла к более высокому», который, согласно Оригену, «делал верующего ближе к Христу»[622]. Отцы церкви, таким образом, использовали аллегорический метод «на злобу дня», который был «наиболее популярным способом истолковывать литературу вообще», чтобы «наилучшим образом подтвердить правильность своего учения»[623]. Более того, аллегорический метод дал отцам церкви возможность толковать непонятные отрывки Ветхого Завета как мистерии, ввиду Божьего мистического вдохновения, которое сделало данный отрывок трудным для понимания[624], а также использовать апокрифы, которые создали основу для традиции, касающейся иконы[625]. Это, в свою очередь, открыло возможность вносить в текст свое собственное мнение[626] в процессе толкования[627] и рисовать такие «нравственные и духовные отражения», которые были основаны «на неправильном понимании текста»[628]. Таким образом, предостережения Павла, которые мы читаем во 2 Коринфянам 3:6, «стали аксиомой для отцов ранней церкви»[629]. Контраст между «буквой» и «духом» закона означал для отцов церкви противоречие между буквальным и аллегорическим толкованием закона[630]. Тот факт, что иудеи отвергли Христа, понимался таким образом, что буквальная екзегеза, которой пользовались иудеи, была мертвой, и ее, следовательно, необходимо было отвергнуть. Следовательно, единственной альтернативой было духовное толкование, и выражение «в духе» прилагалось к аллегорическому толкованию. Таким образом, аллегорический метод, в силу своей популярности в греко-римской культуре и приверженности к аскетической и мистической духовности[631], оказал сильное влияние на толкование Писания, «жизнь и учение церкви, ...кредо церкви и... православной духовности», став стандартным методом толкования в православной церкви в последующие столетия[632].
Школа Антиохии, с другой стороны, делала упор на более «научный, историко-критический метод толкования»[633]. Она была основана в качестве противовеса Оригену и аллегорическому методу толкования в целом. Эта школа искала более серьезный исторический и буквальный смысл в тексте и утверждала, что «исторический смысл напрямую связан с духовным смыслом»[634]. Таким образом, антиохийский метод подчеркивал типологический, практический подход посредством грамматических и логических методов, которые зарождались во Христе и апостолах[635]. Однако антиохийская экзегетика была отвергнута после христологических дебатов ввиду неспособности развить «здравую» христологии, а это означало, что отвержение их христологии вело к отвержению их метода в целом[636].
3.2.3. Иконы и метод толкования
Аллегорический метод толкования, в том виде, как им пользовалась православная церковь в прошлом и пользуется в настоящем[637], представляет из себя средство оправдания богословия иконы и praxis церкви по отношению к Писанию.
Во-первых, этот метод был взят на вооружение св. Иоанном Дамаскиным и его последователем св. Феодором Студитом в их апологетических теориях, касающихся почитания икон во время иконоборчества. Св. Иоанн Дамаскин в поисках более глубокого, духовного смысла подходит ко второй заповеди в соответствии с принципами экзегетики, характерными для его времени. Он воспринимал эту заповедь во свете пророчеств, касающихся прихода Христа, что привносило контраст между невидимом Богом Ветхого Завета и Богом Нового Завета, Который стал видимым в личности Христа. Более того, явление Христа и учение о видимости/невидимости Бога дает св. Иоанну возможность увидеть во второй заповеди некое мистическое предсказание возможности увидеть и описать в будущем Бога, Который придет во плоти.
«Очевидно, что эта заповедь является запретом на представление невидимого Бога. Но когда вы видите, как Тот, Кто не имеет тела, становится для вас человеком, вы начнете представлять Его человеческий аспект... Когда Тот, Кто, будучи Образом Отца, уничижил Себя Самого, приняв образ раба (Филиппийцам 2:6-7), став таким образом осязаемым и качественно, и количественно, приняв плотской образ, тогда появилась возможность изобразить Его и сделать видимым для всех. Рисуйте Его рождение от Марии, Его крещение в Иордане, Его преображение на горе Фавор... Рисуйте все словами и красками, в книгах и на досках.»[638]
Таким образом, посредством духовного толкования св. Иоанн воспринимал этот запрет Ветхого Завета как «необходимость изображать Бога после того, как исполнятся пророчества»[639]. Слова Бога о том, что Он невидим, за которыми следует невозможность изобразить Его ни в какой форме (Второзаконие 4:12-19), стали восприниматься как заповедь создавать образы после перевоплощения — такая фантастическая идея могла развиваться только при помощи аллегорического толкования и необходимости защищать иконы.
Соответственно, ко всем другим отрывкам Писания из Ветхого и Нового Заветов св. Иоанн подходит по такому же принципу — либо духовное толкование различных отрывков используется для защиты икон, а буквально-историческое значение[640] при этом игнорируется по причине предрасположенности св. Иоанна к иконам, либо текст выбирается из контекста и используется в качестве доказательства аргумента в рамках совершенно другого контекста[641].
Более того, противопоставляя Ветхий Завет Новому как эпохи закона и благодати соответственно, св. Иоанн Дамаскин совершенно проигнорировал вопрос преемственности/разрыва преемственности культовых и нравственных законов Ветхого Завета и их значения для Нового Завета и богословия икон. В то время как культовый закон и его требования во Христе упразднены и к христианской церкви не имеют никакого отношения, нравственный кодекс закона Ветхого Завета Новым Заветом не отменен, но даже усилен Иисусом и Его апостолами. Таким образом, методология св. Иоанна представляется односторонней, поскольку ударение в ней делается на перевоплощение как основу существования икон и совсем не говорится об этических аспектах запрета по отношению к идолопоклонству, которое остается практически неизменным, несмотря на перевоплощение.
Св. Феодор Студит, следуя примеру св. Иоанна Дамаскина, адаптировал аллегорический метод толкования, Он считал, что этот запрет Ветхого Завета относится только «к тем, кто жил до наступления эпохи благодати», подразумевая тем самым, что после прихода Христа «чуждым и неприемлемым становится вовсе не использование икон, а запрет на них»[642]. Эта концепция, подкрепленная духовным толкованием определенных отрывков Писания[643] и сдержанностью некоторых отцов церкви В отношении логики и обоснования[644], привела к тем же взглядам на вопрос об идолопоклонстве[645] и его приложении к христианской церкви, какие мы видим в трудах св. Иоанна Дамаскина.
Ouspensky[646], подобно св. Иоанну и св. Феодору, пользовался аллегорическим методом толкования. Учение запретов Ветхого Завета (Исход 20:4; Второзаконие 5:12-19) воспринимается только как «временная, педагогическая мера», имеющая отношение к эпохе Ветхого Завета и поэтому совершенно неуместная по отношению к иконам. Следуя аллегорическим принципам своих предшественников, Ouspensky доводит упор на скрытый смысл до крайности: «Слова Господа "...вы не видели никакого образа... дабы вы не сделали себе..." означают "не сотворите себе никакого образа Божия, покуда не увидели Его"»[647]. И хотя Ouspensky[648] соглашается с последствиями грехопадения, а следовательно, и с возможностью идолопоклонства, он, тем не менее, утверждает, что идолопоклонство может появиться только в связи с образами тварей, но не в связи со всеми образами. Таким образом, этический аспект и легитимность запрета идолопоклонства и его приложение к иконам остаются за пределами его исследований.
Подобным образом, Писание истолковывается аллегорически[649]. Появление образа в Новом Завете «обусловлено запретом на него в Ветхом Завете», и хотя «это может показаться странным, священный образ, предназначенный для церкви, в первую очередь появляется в силу его отсутствия в Ветхом Завете[650]. Следуя особенностям учения св. Иоанна, который брал текст из контекста и таким образом подкреплял свои аргументы, Успенский делает ударение на видимость Бога в Новом Завете как на результат перевоплощения, который, в свою очередь, становится основой для икон, что подтверждается церковной традицией[651].
Отсюда очевидно, что метод православной церкви, во всяком случае отдельных православных богословов, обнаруживает определенные слабости по отношению к Писанию и к тому, как Писание прилагают к богословию икон. Это заставляет исследовать экзегетику тех отрывков Писания, которыми пользуются для оправдания почитания икон.
3.3. Экзегетика Писания и иконы
3.3.1. Иконы и идолопоклонство
3.3.1.1. Этимологический аргумент[652]
Св. Феодор[653], следуя аргументу иконоборцев, отмечает, что у слов «идол» и «икона» практически одно и то же значение: если слово «идол» дословно означает εἶδος «форма» в целом, то слово «икона» происходит от ἐοικός и дословно означает «подобие»[654]. Отсюда следует, что любое подобие всегда отличается от прототипа, поэтому имеет прямое отношение как к «идолу», так и к «иконе». Следовательно, согласно запретам Писания, касающимся образов идолов и любого подобия (Левит 26:1; Исайя 40:19), Феодор допускает, что «опасность идолопоклонства исходит как от иконы, так и от идола»[655].
Чтобы оправдать существование иконы, имеющей отношение к телесной форме Христа, св. Феодор создает сомнительную аналогию между значением первого человека, сотворенного по образу Божию (ἐοικός), в Бытии 1:26 и портретом (иконой) кесаря на монете в Матфея 22:20. Но в то время как слово «икона» в Бытии 1:26 описывает первого человека как созданного по образу Божию, слово «икона» в Матфея 22:20 относится к портрету кесаря, и значение второго слова совершенно отлично от значения того, что использовано в Бытии 1:26. Иными словами, св. Феодор берет буквальное значение слова «икона», не рассматривая богословское значение и соответствующие идеи, и выстраивает свою собственную богословскую концепцию. Кроме того, эта аналогия выглядит совершенно неуместной в приложении к иконе с изображением Христа. В то время как значение иконы с изображением Христа носит скорее гипостатический характер — представление Бога-человека, значение слов в Бытии 1:26 и Матфея 22:20, так же как и контекст, совершенно разные. Аналогия, таким образом, несостоятельна.
3.3.1.2. Экзегетика Писания
Православные богословы[656], отталкиваясь от перевоплощения, считают, что запреты Ветхого Завета относятся к эпохе закона и к Израилю как к нации. Таким образом, эти запреты не носят универсального значения в плане идолопоклонства и неприменимы к Новому Завету после перевоплощения.
Запреты десяти заповедей, о которых мы читаем в Исходе 20:4-5 и Второзаконии 4:15-20, и которые в разных формах[657] представлены в Исходе 20:23; 34:17; Левит 19;4; 26:1; Второзаконие 27:15 воспринимаются православными экзегетами в качестве запретов на образы Бога-Яхве в силу особенностей Божьего откровения в Ветхом Завете[658]. Бог воспринимается невидимым и не имеющим никакой формы[659], а также Тем, Кто не может быть каким-либо образом изображен[660]. Невозможности видения Бога и, следовательно, невозможности Его изображения св. Феодор противопоставляет возможность изображать другие существа, как это заповедал Бог через Моисея для использования во время поклонения Богу (Исход 25:18-22; Числа 21:8-9)[661]. св. Феодор[662] и св. Иоанн[663], таким образом, делают вывод из того, что они находят символы, которые применялись в ветхозаветном богослужении, и оправдывают использование образов Христа в процессе поклонения в эпоху Нового Завета.
Такое объяснение запретов Ветхого Завета оказывается односторонним, поскольку игнорирует важные аспекты.
Оно обусловлено необходимостью защищать почитание икон, но не уделяет внимания буквальному и историческому значению и экзегетике.
Православные ученые не говорят о запретах Ветхого Завета во свете исторических взаимоотношений между Богом и Израилем. Исключительные требования Бога, касающиеся поклонения, основаны на Его природе и исключительных отношениях между Ним и Израилем. Вторая заповедь, как и две последующие, «определяют особый характер» отношений Израиля с Богом как поклонение, помогающее избежать идолопоклонства[664]. Бог Ветхого Завета воспринимается как Бог истории, Который существует во взаимоотношении со Своим народом — Израилем, и эти запреты направлены на то, чтобы сохранить эти особые отношения[665]. В то время как образы «статичны, неподвижны, глухи и немы, бесчувственны и бездумны, фиксируют Бога в определенный момент времени, Бог Израиля — это Бог, Который говорит и действует как в природе, так я в истории», и в Котором существует взаимосвязь «между Богом как Таковым и Богом, Который явлен людям»[666].
Таким образом, любая попытка «локализации и материализации» Бога в какое-либо подобие будет неадекватной, и любой образ «станет олицетворением неправильного представления... божественного прототипа» в силу человеческой слабости и ограниченности, а также приведет к локализации присутствия Бога[667]. Отсюда очевидно, что словесные образы задуманы Богом для того, чтобы «донести отношение Бога к людям так, как не могут пластические образы», а также описать Христа (Колоссянам 1:15) как единственный живой образ, явленный Богом[668].
Более того, учение Павла, которое мы находим в Деяниях 17:20 (29 – прим. корректора) и Римлянам 1:18-32 отличается от учения св. Феодора и св. Иоанна[669], которые не говорят о смысле запретов Ветхого Завета. Павел утверждает, что запреты Ветхого Завета не теряют своей важности даже после перевоплощения. Miranda[670] отмечает, что Павел углубляет значимость запретов Ветхого Завета, приложив их к Новому Завету.
«Те взаимоотношения, которые устанавливаются между Богом Библии и человеком, имеют свои особенности: человек вступает в них только по своей воле. Бог в первую очередь существует, а уже потом устанавливает связь со своим владением. И такие отношения, которые невозможно нейтрализовать, важны для Бога Библии: это Его способ существования. Он является единственным не воплощаемым Богом... В тот момент, когда человек каким-либо образом объективизирует Его, Бог перестает быть Богом. Человек превратил его таким способом в идола: Бог больше не может повелевать человеком.»[671]
В Римлянам 1:18-32 Павел распространяет запрет поклонения идолам, данный евреям, и на язычников. Его укор в Римлянам 1:23, высказанный в адрес язычников за то, что те делают себе образа, ясно показывает, что он «не верит, что запрет, высказанный во Второзаконии 4:16[672], является предписанием, касающимся только Израиля»[673]. Для Павла это скорее вопрос истинного знания Бога со стороны язычников, Которого они познали (Римлянам 1:21), поскольку Бог Нового Завета, явленный через Христа, — это «тот же самый Яхве, Бог Израиля, представление Которого, объективация Которого со стороны людей неизбежно ведет к разрыву взаимоотношений между Богом и человеком»[674].
Изображение херувимов (Исход 25:18-20; 36:8,35), ставшее заповедью Моисея после запрета на образы, используемые при захоронении (Исход 20:4), оказалось для православия начальным пунктом оправдания образов[675]. Их стали рассматривать как разрешение Бога использовать образы при богослужении. Однако можно отметить, что если херувимов изображали в человеческом облике[676], как и образы на иконах, то сами херувимы, в отличие от икон, представляли из себя только символов ангельских существ, служащих Богу[677], и не являлись каналами божественной благодати (иконами) в том понимании, какое принято в православной церкви по отношению к иконам. Последствия использования херувимов и их роль в религиозной жизни еврейского народа, после их приложения православными богословами к практике использования икон выходят далеко за рамки буквального понимания поклонения в Ветхом Завете.
Подобным образом, признавая тот факт, что Писание прибегает к символизму, а медный змий (Числа 21:8-9) даже применялся для спасения людей, св. Феодор в то же самое время игнорирует опасность идолопоклонства, которое ассоциируется с любым образом вообще и, в частности, было связано позже с дальнейшим поклонением змию в истории Израиля (4 Царств 18:4)[678]. Этот пример для Феодора является общим принципом использования Богом материальных предметов, что потом нашло свое отражение и в использовании икон.
Это, однако, показывает слабость экзегетики св. Феодора. Этот общий принцип создается в качестве правила на основе специфической ситуации, и при этом игнорируется тот факт, что медный змей не был задуман вначале как некий культ змея с подобающим ему поклонением, но он представлял из себя некий «культовый объект», который отвечал «нуждам специфического кризиса в специфическое время»[679]. Таким образом, материальный объект, однажды примененный в качестве инструмента Божьей власти в отдельный момент истории израильского народа, привел к формированию культа, в котором инструмент Божьей власти и силы сам стал объектом поклонения. Этот пример, в свою очередь, создает принцип для св. Феодора, который позднее был употреблен для оправдания икон.
Но надо заметить, что использование Богом материальных предметов в определенный момент истории для определенной цели вовсе еще не означает, что это является общим богословским принципом применения определенных материальных предметов в богослужении или постоянным средством проявления божественной силы[680] — Бог волен избирать любые средства для своего употребления. Таким образом, материальные средства, которые Бог использовал в отдельные моменты, по прошествии времени теряют свою силу и власть, и то, что когда-то использовалось в качестве канала, может стать препятствием между Богом и человеком[681]. Отсюда следует, что необходимо помнить об опасности того, что образа могут привести к локализации Божьей силы и Его присутствия и сведению их к неким «предметам»[682].
Соответственно, основанное на Исайи 19:1, предположение православной церкви[683], о том, что Христос положил конец идолопоклонству, показывает ошибочную экзегетику. Такой взгляд игнорирует буквальное значение и контекст[684], раскрывающий осуждение Египта и его идолов, в то время как Исайя не имеет никакого отношения к «бегству Христа в Египет» (Матфея 2:13-15) и разрушению им египетских идолов[685]. Таким образом, на первый план было выдвинуто личное мнение почитателей икон, а не буквальное значение текста, и их личное мнение было внесено в значение текста для того, чтобы отвести обвинение в идолопоклонстве в отношении икон. Такое понимание было основано на аллегорических принципах толкования и отражает общепринятую практику толкования со стороны отцов церкви в тот период[686].
3.3.2. Вопрос видимости и невидимости
Православие противопоставляет видимость Бога в Новом Завете Его невидимости в Ветхом Завете. Запрет на образа связан с отсутствием Божьего откровения людям посредством выражения в каком-либо подобии человеку. Новый Завет, таким образом, представляет собой основу для изображения образов, поскольку Бог открыл Себя людям в Личности Иисуса Христа. Однако православные конструкции богословских концепций, касающихся образов, основанные на Писании, представляют из себя довольно запутанную картину.
Св. Иоанн Дамаскин представляет учение о невидимости/видимости Бога, цитируя при этом отрывки из Ветхого и Нового Заветов[687]. Бог Ветхого Завета как монотеистический и невидимый Бог (Второзаконие 4:12; 6:4) противопоставлен перевоплощенному Богу Нового Завета, Который стал видимым, а следовательно, Его уже можно изображать. Утверждая, что Бог через Христа стал человеком, св. Иоанн приходит к выводу, что «Его можно изображать в человеческом облике» и, следовательно, запреты Ветхого Завета уже не имеют силы[688]. Таким образом, аргументы св. Иоанна раскрывают методологию аллегорического толкователя, который смотрит на скрытый смысл, а затем изображает его. Скрытый смысл запретов Ветхого Завета на образы подразумевает возможность изображать Бога-человека Нового Завета[689].
Та манера, с какой св. Иоанн подходит к Писанию, показывает практику вырывания слов из контекста и их приложения к иному контексту и иному значению, а также прочтения своего собственного мнения с позиции защиты икон. Таким образом, ссылка на закон как на предтечу «будущих благ» (Евреям 10:1), под которыми подразумеваются служение Иисуса как Первосвященника Нового Завета (Евреям 10:6), воспринимается в контексте образов. Закон Ветхого Завета рассматривается как предтеча образов, в которых жертвенное служение Иисуса с уравнивается с реальным образом, который можно изобразить[690].
Кроме того, подход св. Иоанна к закону Ветхого Завета, судя по всему, носит односторонний характер. Приходя к заключениям на основании слов Павла в Послании к Галатам 5:2-4 относительно культового закона и его неприемлемости для христиан, живущих в эпоху благодати, св. Иоанн оставляет без внимания легитимность морального и этического закона, касающегося христиан, в свете запретов Ветхого Завета, направленных против идолопоклонства, а вместо этого излагает учение о невидимости Бога в Ветхом Завете[691]. Слова Павла о христианах, которые обретают «славу Господню», говорящие, что они живут и преображаются согласно Духу (2 Коринфянам 3:3,6,8,18)[692] понимаются им как в прямом смысле видение Бога физическими глазами и противопоставление «ветхому Израилю»[693]. Такое заключение показывает, что св. Иоанн приходит к своему выводу путем аллегорического подхода за счет буквального значения текста, что позволяет этот текст позднее прилагать к совершенно другим по смыслу концепциям и контекстам[694].
Похожим образом св. Феодор[695] подходит к учению о видимости/невидимости Бога, цитируя в качестве доказательств своих аргументов Иоанна 1:18; 9:37. Значение слова ἑὠρακεν («видел») в Иоанна 1:18 воспринимается как физическое зрение и относится к невидимой природе Бога в Ветхом Завете, Которую в Новом Завете Иисус Христос сделал видимой. Значение всего 18-го стиха воспринимается через контраст: Ветхий Завет и Новый Завет, возможность описать/невозможность описать. Далее, цитата Иоанна 9:37 приводится в качестве дальнейшей поддержки учения о видимости Бога в Новом Завете. Слова Христа, адресованные слепому (стих 37): «и видел ты Его, и Он говорил с тобою»[696] воспринимаются как имеющие отношение к человечности Христа, которого видели, а следовательно, и к видимости Бога в Новом Завете в целом.
Следуя св. Иоанну Дамаскину, использование таких отрывков из Писания, как Иоанна 15:5; 20:27-29; 1 Коринфянам 12:27; 15:48 в трудах св. Феодора открывает нам тот же самый метод. Все эти отрывки, согласно этим представлениям, относятся к видимости Бога, где слово «видеть»[697], используемое в разных формах, определяет все значение стиха, и используются в качестве доказательства в пользу истинности аргумента св. Феодора и законности почитания икон в целом[698].
Такое толкование раскрывает главную слабость экзегетики св. Феодора. Подход Феодора к Писанию показывает тенденциозность ученого VIII века по Р. X., поскольку Писание объясняется с позиций его стремления защищать иконы. Любое упоминание о физическом видении Бога во плоти в таких отрывках, как Иоанна 1:18, 9:37, 20:27-29, воспринимается как доказательство правоты его взглядов и богословия иконы. Это достигается путем вырывания ссылок о видении Христа во плоти из непосредственного контекста Писания и приложения этих фраз к новому контексту, построению совершенно иного значения. Это новое значение, таким образом, формируется за счет буквального значения отрывков, которые необходимо рассматривать в контексте, коим в Иоанна1:18[699] является истинное знание Бога, а в Иоанна 9:37, 20:27-29 - вера/неверие[700].
Очевидно также, что св. Феодор и св. Иоанн игнорируют тот факт, что непосредственным намерением автора в момент написания является не защита иконы и не вопрос видимости/невидимости Бога с последующим его приложением к богословию икон. Цель авторов книг Нового Завета состояла совсем в другом, и совершенно очевидно, что они вовсе не задумывались над вопросами видимости/невидимости Бога ввиду абсолютной неактуальности этого вопроса в их времена. Таким образом, отсутствие высказываний авторов Нового Завета о художественных образах[701] открыло возможность для богословских спекуляций через создание нового, скрытого смысла в процессе экзегетики.
3.3.3. Теология и икономия: экзегетика
Чтобы усилить свой аргумент в защиту икон, св. Феодор прибегнул к традиционной концепции теологии и икономии которой пользовались со времен каппадокийских отцов[702]. Св. Феодор делал философское различие между теологией и икономией, противопоставляя его основанным на Писании свидетельствам иконоборцев, которые прибегали к исключительности одного поклонения одному Богу (Матфея 4:10; Луки 4:8; Второзаконие 6:13). Согласно этому учению Св. Феодора о разделении, в теологии нет никакого сходства или подобия, которые для св. Феодора были бы связаны с невидимым Богом Троицы. Это характерные черты божественной икономии, которая состоит из прототипа и копии — Бога и Христа соответственно[703]. Отсюда, согласно св. Феодору, Христу адресованы два вида поклонения[704]. Первое из них проходит на уровне теологии-богословия: «Ему поклоняются наряду с поклонением Отцу, поскольку Он есть Бог, равный Отцу...», а второе относится к икономии-домостроительству — «Ему поклоняются также в Его образе, прототипом которого Он является…»[705] Таким образом, иконе с изображением Христа поклоняются посредством двух разновидностей поклонения: latreia, обращенной к Христу-Богу теологии-богословия, и proskynesis, обращенной к Христу-человеку икономии-домостроительства.
Против утверждения иконоборцев о том, что Богу нужно поклоняться в «духе и истине» (Иоанна 4:24) св. Феодор также приводит различие между теологией и икономией[706]. Считается, что поклонение в духе и истине относится к области теологии, а поклонение образу относится к икономии. В то время как Христос, будучи Богом, есть дух, Он в Своей ипостаси объединен с человеческой плотью, поэтому в православной церкви Ему поклоняются в духе и истине в соответствии с Его ипостасью. Таким образом, экзегетика св. Феодора показывает, что вместо того, чтобы рассматривать экзегетику этого конкретного отрывка в его буквальном значении, что подразумевает поклонение во Святом Духе и через Святого Духа, «не привязывая его к конкретным священным местам» или иконам, он (св. Феодор) делает философское различие между теологией и икономией и привносит его в понимание этого текста[707]. Очевидно также, что его понимание и аргументация формируются в соответствии с неоплатоническими концепциями соответствия между копией и прототипом, что стало средством оправдания его понимания Писания.
Однако здесь напрашивается вопрос о том, правомерно ли и полезно ли то разделение между теологией и икономией, которое делает св. Феодор. LaCugna[708] отмечает те трудности, которые возникают в связи с разделением между теологией и икономией в учении о Троице, с одной стороны, термин теология для св. Феодора определяет «внутреннюю» жизнь Троицы и ее восприятие человеком. С другой стороны, божественная икономия воспринимается как общение Бога с человеком через ипостатическую Личность Христа. В то время как эти две концепции относятся к учению о Троице, они, тем не менее, должны оставаться «ясными и раздельными»[709]. Таким образом, между ними существует ясное разделение. Отсюда следует, что
«Богословие, построенное исключительно вокруг theologia, порождает неэмпирическую, несотериологическую, нехристологическую, непневматологическую метафизику божественной природы. Богословие, построенное исключительно на oikonomia, приводит к скептицизму относительно того, может ли Бог спасать людей через Христа силой Святого Духа, что связано с вопросом о том, Кто или Что есть Бог. Единство theologia и oikonomia показывает, что фундаментальным вопросом богословия Троицы является не внутренняя работа «имманентной» Троицы, а вопрос о том, как труд Троицы в истории спасения нужно соотносить с вечной сущностью Бога»[710].
Тогда становится очевидным, что oikonomia и theologia являются двумя аспектами одного общения Бога с человеком и что между ними существует важное единство[711]. Иными словами, сотериология неотделима от богословия: Бог «теологии» воспринимается через сотериологический (спасительный) труд Христа. В свете единства между теологией и икономией различие св. Феодора по отношению к иконам выглядит непоследовательным и таит в себе опасность подрыва учения о Троице.
Кроме того, это единство поднимает вопрос относительно роли икон в жизни церкви. Если общение Бога с человеком раскрывается через Христа, в «силе и в присутствии Святого Духа», тогда для общения Бога с человеком через несотворенные энергии икон или не остается места в церковной практике, или иконы в их применении в практике церкви отодвигаются на задний план, уступая законное место для общения с Богом через Христа и Святого Духа. Следовательно, если существует единство между теологией и икономией, как тогда возможно создать философскую концепцию соответствия между копией и прототипом, не нарушив это важное единство?
3.3.4. Прототип и образ: библейское основание для почитания
Св. Иоанн Дамаскин[712] использует аристотелевскую концепцию причины и следствия, а также неоплатоническое учение о соответствии между копией и прототипом, следуя Псевдо-Дионисию[713] в его попытках примирить почитание икон с Писанием.
Во-первых, Бог Отец воспринимается как причина, а Сын — как следствие: в то время как Сын «равен Отцу во всем», Он берет от Него начало и принадлежит Ему[714]. Исходя из этого, св. Иоанн в неоплатонической схеме выстраивает некую лестницу образов в нисходящем порядке. За концепцией Христа как естественного образа Божия (Колоссянам 1:15)[715] следуют пять различных видов образов. Они воспринимаются как Божье предвидение, человек (Бытие 1:26), тени, формы и типы невидимого и бестелесного, аллегорические образы и материальные образы, предназначенные для «напоминания о событиях прошлого», которые представлены либо в словесной форме в книгах, либо в материальных образах и использовались в культовой жизни Израиля (Второзаконие 5:22; Исход 16:33-34; 17:14; 28:11-12; Числа 17:10; Осия 4:20)[716]. Тогда очевидно, что для св. Иоанна икона как образ стоит в одном ряду с существующими образами Ветхого Завета, которые выполняют дидактическую роль, напоминая христианам о прошлых событиях или «доблестных людях» для того, чтобы верующие могли им подражать[717].
Похожим образом св. Иоанн развивает свою теорию поклонения. Согласно его пониманию, оно состоит из пяти типов, и иконе адресовано относительное поклонение, в котором она считается объектом сотворенного порядка, посвященного Богу[718]. Таким образом, основываясь на своих рассуждениях и на аргументе св. Василия, св. Иоанн приходит к заключению о том, что иконе следует поклоняться, поскольку она является прототипом: «Любое поклонение, которое воздается образу, передается прототипу образа»[719].
Св. Феодор[720], в дополнение к мыслям св. Иоанна, также говорит о различии между теологией и икономией. Почитание икон относится к области икономии. Согласно его взглядам, которые показывают влияние неоплатонизма, такие отрывки из Писания, как Матфея 4:10; Луки 4:8; Второзаконие 6:13; Евреям 1:6, говорят о прототипе[721]. Слова Христа: «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Матфея 22:21), согласно его логике, относятся к иконе с изображением Христа, которой необходимо воздавать поклонение[722]. Прототип получает почитание, согласно учению св. Феодора, на основании Писания, которое он воспринимает через призму неоплатонической концепции взаимоотношений между образом и прототипом, подразумевающей, что «копия неотделима от прототипа»[723]. Эта идея, вырванная из контекста дискуссии св. Василия о Святом Духе[724], была поддержана и усилена устной традицией и постепенно переведена в его экзегетику Писания св. Феодором, став, таким образом, основанием для поклонения иконе[725].
Evdokimov[726] отмечает, что стих Колоссянам 1:15 раскрывает «христологическое основание иконы» — эта идея, характерная для православных богословов[727], согласно которой «видимая человеческая природа Христа является иконой Его невидимой божественной природы». Икона с изображением Христа, таким образом, считается «образом Бога и человека в одно и то же время»[728]. Под словами ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ ἀοράτου («Который есть образ Бога невидимого») понимается видимость Бога в Новом Завете как контраст Его невидимости в Ветхом Завете, где Христос, будучи видимым человеком, представляет невидимую природу Бога. Слово εἰκὼν («образ») воспринимается как средство выражения видимости Бога и как таковое одно из значений образа εἰκὼν, привычных для греческой терминологии, — «точное иллюстрированное воспроизведение, живопись, статуя, зеркальное отражение»[729]. Другое значение — «внешняя форма личности или предмета, но, скорее, направленная на «описание» его сущности или бытия»[730]. Таким образом, очевидно, что Evdokimov и другие православные богословы прибегают к первому значению и прилагают его к пониманию первой половины 15-го стиха, который, в свою очередь, считается свидетельством из Писания в пользу икон, но который рассматривается в отрыве от контекста этого места Писания. Можно подвергнуть сомнению метод и экзегетику, которыми пользуются православные богословы. В то время как Христос видимым образом представляет невидимого Бога, главное внимание 15-го стиха, если его рассматривать в контексте гимна (Колоссянам 1;15-20)[731], обращено не на видимость Бога, а на самооткровение невидимого Бога посредством искупляющей деятельности видимого «образа». Этот образ исполняет как функциональную, так и онтологическую роль[732]. С одной стороны, он показывает отношение Христа к Богу, а с другой — Его пресуществление. Но термин εἰκὼν («образ»), таким образом, связан с термином πρωτότοκος («первородный»), который не выражает в первую очередь отношение Христа к Богу, а скорее ко всему творению»[733] — мысль, которая выражена в 16-м стихе. Отсюда следует, что стремление православия оправдать на основе Писания почитание икон раскрывает основные слабости методов подхода к Писанию со стороны православных богословов.
Во-первых, Писание используется в качестве оправдания почитания икон посредством вырывания стихов из контекста и придания им нового значения, но уже в контексте новой богословской конструкции, таким образом изменяя первоначальное значение и смысл отдельных отрывков Писания. Во-вторых, в то время как Писание цитируют, пользуясь им как средством поддержки почитания икон, средствами построения богословской структуры, ставшей основой почитания икон, привязки их к Писанию и влияния на толкование Писания, в первую очередь стали в основном неоплатонические философские концепции.
Св. Иоанн Дамаскин также прибегает к авторитету Писания, отстаивая почитание икон с изображениями святых. Под святыми здесь понимаются исключительные люди, отличные от остальных христиан по той причине, что они «избраны Самим Богом для особой цели»[734] и как таковые представляют «воинство Господне»[735], которым необходимо поклоняться, «поскольку они несут в себе Того, Кому необходимо поклоняться в силу Его природы»[736]. Поэтому их называют богами «не по природе, а по усыновлению», сидящими с Богом в сонме богов (Псалтирь 81:1)[737]. Они обретают славу, согласно 1 Царств 2:30, где слова Господа, адресованные Илии и его сыновьям — «Я прославлю прославляющих Меня», — воспринимаются так, будто здесь говорится о святых, которые обретают славу от Бога как «наследники Божий, сонаследники же Христу» (Римлянам 8:17), находящиеся в то же время в общении с Ним[738]. Кроме того, благодать Святого Духа остается в их телах в могилах или в их образах, поскольку эти люди были исполнены Святого Духа, когда жили на земле[739].
Более того, считается, что святые призваны быть «князьями по всей земле» (Псалтирь 44:17), обладающими «силой и властью над всеми бесами, и врачевать от болезней» (Римлянам 9:1), настолько сильной, что «одна, только тень их изгоняла бесов и болезни» (Деяния 5:16)[740]. Такой взгляд встречает поддержку со стороны аргументов св. Иоанна, основанных на церковной традиции, которую нужно принимать «в простоте сердца, не задавая пустых вопросов»[741]. Однако против такого толкования, к которому прибегают православные экзегеты, можно выдвинуть ряд возражений.
Во-первых, представленное выше значение таких отрывков из Ветхого Завета, как Псалтирь 81:1; Псалтирь 44:17; 1 Царств 2:30, показывает, что здесь используется аллегорический метод толкования, который игнорирует историческое и буквальное значение данного текста в контексте Писания, а также замысел автора. Во-вторых, отрывки из Нового Завета представляют общепринятую практику толкования — вырывание отдельного текста или определенных слов и фраз из контекста и подгонку их к совершенно другому контексту. В-третьих, то определение, которое дают святым православные, отличается от определения, представленного в Новом Завете. Приводя 1 Коринфянам 1:2 в качестве примера того, что этот термин использует Павел, св. Иоанн Дамаскин[742] игнорирует тот факт, что тот же самый термин в других местах Нового Завета (2 Коринфянам 1:1; Ефесянам 1:1) Павел относит ко всем верующим, а не к отдельной группе мучеников. И наконец, можно поставить вопрос о взгляде св. Иоанна на традицию по отношению к Писанию, который не позволяет проводить никаких исследований, а предусматривает безоговорочное согласие с традицией, которая, в свою очередь, налагается на толкование Писания.
3.3.6.1. Предварительные ремарки
Православная экзегетика тех отрывков Писания, которые прямо или косвенно касаются икон в контексте видения и слышания, связана напрямую с православной концепцией о превосходстве зрения над слухом. Чтобы понять православную экзегетику Писания, нам нужно рассмотреть происхождение и развитие концепции о превосходстве зрения.
3.3.6.2. Происхождение концепции о превосходстве зрения
Pelikan[743] отмечает, что о превосходстве зрения впервые говорил Платон, а затем эту теорию разрабатывал Аристотель. Термин «эстетика», который «имел отношение к психологии и эпистемологии и, следовательно, к отношению эмпирического чувства восприятия», был основан, в свою очередь, на учении Платона о формах, утверждающем превосходство зрения[744]. Такое понимание оказало влияние на языческие формы поклонения. Языческое богослужение, которое во многом носило чувственный характер и состояло из «вдыхания "аромата" ладана»[745] или видения «крови или плоти жертвы», было противопоставлено христианскому богослужению ранними апологетами, которые «делали различие между «чувственным восприятием» [aethesis] и «разумом» [logos][746]. Таким образом, христианское богослужение воспринималось, как жертва — «богослужение умом и сердцем», которое вовсе не зависело от чувств и брало свое начало от Павла, Иоанна Златоуста и Григория Нисского[747].
Однако под давлением еретических учений отцы церкви, начиная с Афанасия, подчеркивали человечность Христа, которая состояла из материи и поэтому была восприимчива для человеческих чувств. Это, в свою очередь, привело к тому, что отцы церкви стали отчасти толковать Писание с позиций «чувственного восприятия» и литургии, основанной на «возрождении визуального», поскольку зримое всегда было неизменной составной частью культа святых[748].
Впоследствии греческая философская концепция образования, которая базировалась на первостепенности зрения как средства приближения к истине, была воспринята отцами церкви, которые сделали ее составной частью своего богословия икон[749]. Это привело к взгляду, согласно которому икона стала восприниматься как «больше, чем слово», — концепции, которую поддержали отцы Седьмого экуменического собора[750]. Таким образом, использование икон для дидактических целей в церкви стало восприниматься как понимание, которое ведет человека «от чувственного восприятия к невидимому» и как таковое представляет «не рецидив язычества, а уступку психологии всех нормальных людей, как христиан, так и язычников»[751].
5.5.6.3. Видение и слышание: экзегетика
Чтобы соединить первостепенность видения с учением Библии, отцы церкви развили метафизику света[752]. Она была основана на предположении Платона, который «считал свет божественным по своей природе» и связывал его с чувством зрения[753].
Более того, метафизика света, основанная на философии Плотина[754], стала составной частью богословского учения о взаимоотношениях между Богом Отцом и Христом. При этом Писание интерпретировалось под определенным углом. Ссылки из Писания на Христа и на Его отображение Бога Отца как «сияние славы [апаугазма] и образ ипостаси Его» (Евреям 1:3)[755], а также упоминание Иоанна о том, что Христос — не просто Слово (Иоанна 1:1-9), которое необходимо слышать и которому необходимо подчиняться; но и Свет... который, следовательно, должен быть виден», относилось к видимой природе Христа[756]. Слова Иоанна (1 Иоанна 1:1-2) были «стандартным текстом, служащим доказательством христианской метафизики света». Название «Свет от света», как оно стало известно в Никео-Константинопольском символе веры, позднее дало защитникам икон уверенность в том, что их учение основано на Библии. Когда во времена иконоборчества возникла необходимость подтвердить превосходство зрения над чувством слуха, в качестве поддержки аргументов сторонников икон выдвигались такие литургические конструкции, как «Свет от света». Это, в свою очередь, было связано с разделением между теологией и икономией, при котором акцент делался на перевоплощение, что становилось дополнительным аргументом в пользу чувства зрения[757].
Кроме того, чтобы усилить связь между иконами и Писанием, православие использует «те отрывки Писания, в которых так или иначе сопоставляются слышание и видение»[758]. Слова Христа в Матфея 13:16-17 воспринимаются как контраст между верующими Ветхого и Нового Заветов. Тем, кто жил до Христа, приходилось полагаться на пророческое слово, которое они воспринимали посредством слышания. В противовес им, те, кто жил во время земного служения Христа, имели честь видеть Его, и даже после того, как «видимое присутствие исторического Христа исчезло», они по-прежнему могли видеть Его «посредством икон»[759]. Факт, что сначала Христос говорил о глазах и только потом об ушах (Матфея 13:16) и что «благая весть проповедовалась для того, чтобы ученики слышали ее, но только после того, как они впервые увидели Христа», приводит к заключению о том, что иконы стали заменителем видимого присутствия Христа и Его дел[760].
Подобным образом, видения пророков Ветхого Завета воспринимаются православной церковью как подтверждение превосходства чувства зрения. Тот хронологический порядок, в котором записаны видения Исайи и Иезекииля (Исайя 6:1,4; Иезекииль 1), дал православию дополнительное свидетельство в пользу превосходства зрения[761]. Таким образом, учение о том, что видение предшествует слышанию, очевидно, исходит в большей степени «от богословских предположений, основанных на психологии чувственного восприятия, а не на здравой экзегезе Писания[762].
Те богословские размышления о Писании и богословии икон, которые отдают приоритет чувству видения, открывают влияние неоплатонизма и односторонний метод экзегетики в православии. С одной стороны, не следует недооценивать значение чувства зрения в области «икономии», но с другой, однако, возникают сомнения относительно того, можно ли чувство зрения в деле спасения считать превосходящим чувство слуха.
Giakalis[763] отмечает, что, хотя отцы Седьмого экуменического собора следуют идеям Платона о знании через чувства, не следует оставлять без внимания «радикальное отличие, которое существует» между греческим подходом к чувствам и христианским. Взгляд христианства на чувства носит умеренный характер, и согласно ему «чувства не "любимы сами по себе", а усмиряемы и порабощаемы» (1 Коринфянам 9:27)[764]. Отсюда следует, что подход православия к чувству зрения и понимание его в отрыве от всего контекста спасения в целом отражает более греческую классическую мысль, нежели библейскую.
Более того, подход православия к отрывкам из Писания, имеющим отношение к метафизике света (Иоанна 1:1-9; 1 Иоанна 1:12), показывает главную слабость православной экзегетики — выдергивание отрывка из контекста и использование его в качестве доказательства целой теории. Таким образом, восприятие 1 Иоанна 1:1-2 в качестве доказательства метафизики света показывает, что православные экзегеты игнорируют тот факт, что христианская метафизика света «в первую очередь основана... на чувстве слышания, а не видения» (1 Иоанна 1:5)[765].
Подобным образом, православная экзегетика Матфея 13:16-17 показывает богословское спекулятивное построение, которое находится под сильным влиянием учения Платона о чувственном восприятии и игнорирует контекст этого отрывка Писания. Упоминание Иисуса о чувстве зрения по отношению к своим ученикам произнесено в контексте отличия учеников от окружающей толпы (стихи 11-17) в связи с проповедью Царства Божия»[766]. Таким образом, очевидно, что повышенное внимание православных богословов к порядку слов во фразе Христа, а именно к тому, что сначала Он говорил о видении, а потом о слышании, и последующее заключение о превосходстве зрения не соответствует теме этого отрывка и показывает внесение чуждой идеи в понимание этого текста.
Сходным образом, подход православия к видениям Ветхого Завета (Исайя 6:1; Иезекииль 1), который делает акцент на превосходство зрения и представляет спасение как «видение истины»[767], игнорирует контекст этих видений и их цель в каждой отдельной книге. И хотя зрение идет первым, в книге Исайи 6:1 и Иезекииль 1 соответственно оно представлено в контексте, где Бог являет Свое слово Своему народу. Таким образом, в обоих случаях мы видим принцип, согласно которому «видение-зрение как таковое неразрывно связано со Словом» и «чувство зрения всегда неотделимо от Слова, которое является решающим»[768].
Более того, утверждение православных богословов о превосходстве чувства зрения в контексте богословия икон, а следовательно и всей икономии спасения, явно противоречит учению Библии о чувстве слуха во взаимосвязи с верой.
Giakalis[769] отмечает значимость чувства слышания посредством аудио-визуальных средств» (Римлянам 10:14), где чувство слышания выполняет «решающую функцию»: «Вера от слышания» (Римлянам 10:17)[770]. Это заставляет Giakalis[771] представлять значение каждого из чувств в деле провозглашения Благой Вести более умеренно — чувство зрения является средством, которым можно пользоваться наряду с чувством слышания.
Наконец, Ellul[772] предполагает, что чувство зрения в том виде, как оно представлено в служении Иисуса и в книгах Нового Завета, важно постольку, поскольку оно полезно для веры христианина и подчинено этой цели. В Евангелии от Иоанна (Иоанна 1:18; 14:19; 20:29), Посланиях Павла (2 Коринфянам 4:18) и Посланник евреям (Евреям 11:1,3) мы можем видеть напряженность между видением/неверием и тем, что невидимо, но принадлежит к области веры и слова. Таким образом, Писание делает ударение на вере, которая зависит от чувства слышания, но при этом не исключает и чувство зрения. Это, в свою очередь, подразумевает, что в то время как православной экзегетике отрывков Писания, которые говорят о чувствах видения и слышания, недостает богословской ясности и систематического подхода, тем не менее, молчание Писания в отношении ясности между зрением/слухом оставляет «нишу» для богословских построений по этому вопросу относительно икон.
Отношение православия к Библии в плане икон являет перед нами довольно запутанную картину. Во-первых, метод толкования отрывков Ветхого Завета по отношению к Новому Завету и к иконам показывает недостаток систематического подхода. Запреты Ветхого Завета недооцениваются, рассматриваются как бы «сверху», с позиций Нового Завета, в частности с позиции перевоплощения. В своем подходе к Ветхому Завету православные богословы используют дедуктивный метод. Вместо того, чтобы дать возможность книгам Ветхого Завета говорить самим за себя и заставлять исследователей делать выводы, соответствующие непосредственному контексту отрывков Писания и темам, в рамках которых они представлены, православные исследователи привносят в текст свои идеи, а затем выстраивают из них или влагают в них свое значение и заключение для текстов Нового Завета и для богословия икон. Это приводит к неадекватным богословским идеям, основанным на отрывках Ветхого Завета, в частности, на запретах Ветхого Завета, которые считаются уже не имеющими никакой силы, и, как результат, к отрицанию опасности идолопоклонства в новозаветной форме богослужения.
Во-вторых, аллегорический метод толкования, с одной стороны, позволил им игнорировать буквальный и исторический контекст Писания и представить его значение таким образом, чтобы оно соответствовало их собственной богословской структуре. С другой стороны, лингвистически буквальное понимание определенных слов и фраз в отрывках Писания, которые были вырваны из контекста, привело к возникновению, согласно их собственным представлениям, текста Писания, выступающего в поддержку икон.
И в-третьих, такая экзегетика Писания показывает влияние неоплатонических идей и греческой системы образования. Такие идеи, очевидно, являются начальным пунктом для построения соответствующей метафизики и эпистемологии, которые использовались в качестве средства построения или создания соответствующего значения, годного для богословия икон, при котором Писание используется не как центральный, а как вспомогательный фактор.
Глава 4
Теория и практика
Недостаток обучения Библии и ясности позиции со стороны православных богословов по вопросу использования икон в течение веков приводил к оппозиции почитанию икон внутри самой православной церкви. Это, в свою очередь, приводило к противоречиям между теоретическими концепциями иконы и praxis церкви. В этой главе мы рассмотрим исторические свидетельства, касающиеся различий между теорией и практикой относительно икон, которые встречались в истории православной церкви, а также то, к чему это приводило.
4.2. Период до иконоборчества
Развитие икон имело место в греческой культуре, которая обладала большой традицией в плане языческих верований и практики, где популярные верования, хранившиеся среди народа, и частная практика обычно приводили к возникновению официально признанного культа[773].
Kitzinger[774] отмечает, что языческое поклонение и верования определяли отношение к иконам со стороны необразованных масс. Во время правления Константина, когда христианство обрело статус государственной религии, вера в магическую и божественную силу некоторых предметов — «давно устоявшаяся традиция, которая соответствовала возвеличиванию имперской власти и ее божественного характера», перешла от культа императора к культу икон[775]. Эта вера брала свое начало от языческого прошлого и нашла поддержку среди широких масс греков и эллинизировавшихся иудеев, которые считали, что религиозные образы являются хранителями божественной силы. Таким образом, в народной религии барьер между образом и личностью (прототипом) был ликвидирован и привел к поклонению образам как таковым, которые, как считалось, обладают «волшебной силой»[776].
Кроме того, в последующие времена, после господства язычества, очень популярными оставались различные легенды. В то время как в христианской среде существовал взгляд, согласно которому иконы не сотворены человеческими руками, «в языческом Ефесе существовал свой образ Артемиды, которая снизошла с небес»[777]. Подобным образом, культ святых и икон с их изображением предполагал те атрибутику и практику, которые ассоциировались с греческим культом героев.
И наконец, в то время как в период с IV по VIII века по Р. X. внутри православной церкви существовала спорадическая, несистематическая критика и оппозиция против всякого рода образов, тем не менее, она практически не оказала влияния на народные верования, которые продолжали существовать независимо от развития событий вокруг них. Образы определенных личностей стали приравниваться к непосредственному присутствию самих этих личностей[778]. Широкое использование православной церковью икон в течение этих столетий, ассоциировавшееся с различными типами языческих верований и практики, не поддавалось никакому контролю со стороны церкви и в конце концов привело к взрыву иконоборчества в VIII веке по Р.X.[779]
Иконоборчество представляет из себя важный шаг со стороны противников икон. Исторические данные показывают, что к VIII веку по Р. X. иконы занимали центральную часть как в личном поклонении верующего, так и в официальной форме богослужения и стали часто ассоциироваться с магическими и идолопоклонческими аспектами[780]. Как утверждает Ouspensky,
«Некоторые христиане ревностно украшали церкви и рассматривали этот шаг существенным для своего спасения. Повсеместное почитание икон было явным в той практике, которая практиковалась церковью. Так, иконы иногда исполняли роль крестных отцов или крестных матерей во время крещения... Некоторые священники соскабливали краски с икон, смешивали их со священными дарами и распространяли такую смесь среди верных христиан как божественное тело и кровь, которые якобы по-прежнему присутствуют на образах. Другие священники совершали литургию над иконой, а не над алтарем. Верующие понимали почитание икон слишком буквально. Они почитали не столько личность, представленную на том или ином образе, сколько сам образ. Такая практика однозначно давала начало возрождению магических или упаднических форм язычества.»[781]
Иконоборцы поэтому решили исправить такое положение дел, чтобы «очистить» истинное богослужение, полностью отвергнув использование икон. Сторонники икон, в свою очередь, были вынуждены разрабатывать теоретические концепции почитания икон, чтобы защититься от обвинений в свой адрес в идолопоклонстве и увязать свои взгляды с учением Библии. Таким образом, помимо других концепций, они представили концепцию о различии между образом и прототипом, которая подразумевала, что, оказывая честь и поклонение образу, человек тем самым оказывает честь и поклонение прототипу этого образа, поэтому икона играет дидактическую роль в церковном богослужении.
В то время как мы видим, что в период иконоборчества сторонники поклонения икон оправдывали свои взгляды, используя богословские и философские аргументы, может показаться интересным, соответствуют ли теоретические концепции, развитые православными богословами в период иконоборчества, практике церкви в жизни-православных верующих.
4.4. Русская православная церковь
Различия между теоретическими концепциями и церковной практикой были, судя по всему, характерным явлением в течение всей истории существования русской православной церкви. Христианская вера «в России не проповедовалась», но доносилась до людей через иконы, а не через Слово, и хотя «Русь крестилась», она, тем не менее, не познала истинного учения[782]. Принимая христианство со всеми его догмами, Русская Православная церковь не уделяла должного внимания необходимости обучения масс христианскому учению, и особенно учению об иконах. Это привело к продолжению существования язычества, по сути, среди мирян, которые свои языческие верования сделали составной частью культа Марии, святых и празднований, начиная с XII века по Р. X. и по настоящее время.
Идолопоклонство и верования необразованных священнослужителей[783] и мирян привели к противодействию и попыткам отдельных личностей исправить ситуацию с использованием икон. В XVIII в. царь Петр I приказал Синоду во время церковных реформ сделать все для того, чтобы исправить ситуацию с почитанием икон и издать «нравственные наставления для простого народа, касающиеся священных икон» в качестве средства преодоления суеверия и языческих верований, связанных с иконами[784]. Подобные меры столетие спустя предпринимал другой царь, Александр III, который также пытался изменить ситуацию, связанную со злоупотреблением иконами.
Борисов[785] отмечает, что между теорией и практикой в отношении икон в современной православной церкви существует явное расхождение[786]. Защищая, с одной стороны, богословские и философские основы почитания икон, он, с другой стороны, отмечает, что народные верования, «которые возникли на основе икон и акафистов... не имеющие с Писанием ничего общего», создают «фантастические богословские конструкции» и приводят к заблуждениям во взглядах на иконы[787]. Это, в свою очередь, приводит к разрыву между теорией и практикой. С одной стороны, в богословском смысле иконы и культ святых и Марии определяются одним особенным способом. С другой стороны, на практике, по причине отсутствия христианского обучения, эти концепции, как правило забывают, а вместо них открывают путь преувеличенному взгляду на иконы, культ Марии и святых, что часто приводит к чистому идолопоклонству[788].
Свидетельства из истории православной церкви показывают, что всегда существовал и до сих пор существует разрыв между тем, что говорят и пишут богословы, и тем, что на самом деле практикуют верующие люди. В то время как православная церковь в период иконоборчества была вынуждена вырабатывать теоретические концепции относительно иконы, те языческие верования и взгляды, которые были широко распространены среди необразованных масс, оставались главной особенностью в культе иконы.
Отсутствие богословского и библейского обучения в православной церкви как в прошлом, так и в настоящем всегда приводило к тому, что языческое содержание передавалось среди православных верующих из поколения в поколение. Это часто проявляется в сходных с языческими подходах к иконе, святым или Деве Марии, которые повсеместно встречаются в praxis современной православной церкви.
Глава 5
Если подходить чисто исторически, то икона является продолжением практики и верований средиземноморского мира поздней античности. Эпоха синкретизма в области верований, искусства и политики сыграла свою роль в возникновении феномена иконы. Пик поклонения иконе, как и противодействия этому явлению, приходится на период с V по VIII века по Р. X. Несмотря на взрыв иконоборчества, икона испытала новую фазу своего развития, когда христианство вышло за рамки Византийской империи и охватило славянские народы. Сила ее богословского выражения становится главным моментом в Русской православной церкви на многие века, а икона выполняет главную роль в русской православной духовности и в церковной практике, как публичной, так и частной.
Главным фактором в историческом развитии иконы была практика мирской жизни и народные верования, которые превращались церковными богословами в некую систему, когда в том возникала необходимость. Сила иконы в народной религии кроется в эмоциональном подходе и психологическом стимуле, вызванном стремлением верующего быть ближе к знакомым людям или находиться в их окружении. Визуальный аспект иконы в течение многих веков придавал уверенность в божественном присутствии и помощи в трудную минуту.
С философской точки зрения, идеи Платона и неоплатонизма, ставшие составной частью богословия икон, представляют сильнейший момент православной апологии икон. Став составной частью дебатов о Христе и Троице, эти философские идеи были расширены и приложены к священному искусству. Эти идеи заделали брешь, существовавшую в связи с отсутствием прямых ссылок на Писание, которые могли бы оправдать икону и практику почитания икон, уже существовавшую в церкви. Эти философские идеи породили существенную эпистемологию и создали метафизику, которая является важной для оправдания и существования икон. Философия вообще является отправной точкой всех тех богословских размышлений православных богословов, в которых эти философские идеи используются для понимания Писания и последующей богословской конструкции. Это приводит к рождению не библейского, а, скорее, философского богословия.
Как мы уже не раз говорили, православные богословы делают ударение на учение о творении и перевоплощении, выстраивая на их основе богословскую основу иконы. Это порождает повышенное внимание к материи и ее ценности в использовании христианского богослужения, которое, в свою очередь, подразумевает физические чувства, а они рассматриваются в качестве освященных посредством перевоплощения и важных для христианского богослужения. Такой взгляд, однако, игнорирует последствия грехопадения и эсхатологическое значение искупления.
Хотя с догматической точки зрения, согласно православным богословам, между образом и его прототипом существует ипостатическая идентичность, икона, тем не менее, становится объектом почитания, а когда с ней связывают реальное присутствие прототипа, то она ведет к опасности идолопоклонства. Необходимо признаться, что эта, по сути, языческая идея была привнесена в почитание икон посредством народных верований. Следовательно, вполне очевидно, что ни православные богословы периода иконоборчества, ни современные исследователи не решали эту художественную проблему, которая лежит в основе ипостатической идентичности. Откуда мы знаем, что образ Христа похож на Самого Христа? Такой вопрос заставляет предположить, что, поскольку образ создан, значит, он уже представляет «личность» модели, а также подтвердить это соответствующей надписью. Если изображение называется «св. Петр», то это портрет св. Петра, хотя и в обоготворенном состоянии. По-прежнему современным православным богословам приходится давать дополнительные разъяснения относительно существования ипостатического подобия Христа, отдельно от Его оузии.
С богословской точки зрения, развитие апофатической теологии привело к неадекватному пониманию Бога. Много внимания уделяется Его неясной природе, но нигде не говорится о постоянстве Бога. Как результат, между Богом и человеком появляется пропасть, мостом через которую служат иконы, Мария и святые. Повышенное внимание православия к учению о творении и перевоплощении через несотворенные неличностные энергии дает возможность православному верующему стремиться к более близким личностям, например Марии и святым, видя в них доступ к Богу. В связи с этим православную концепцию обожествления в том виде, как она отражена в иконах, по-прежнему нужно разъяснить, рассматривая эсхатологическое значение искупления.
«Традиционный» подход православия к традиции икон является одним из свидетельств отсутствия критической оценки собственных традиций. Учение о неписаной традиции, которое служит поддержкой аргумента в защиту икон, основано на легендах и апокрифах. Оно не выдерживает никакого историко-критического исследования и подрывает учение православной церкви об апостольском происхождении икон.
Подобным образом, культу Марии и святых также недостает поддержки со стороны апостольской традиции. Первый берет свое начало от церковной традиции и основан исключительно на апокрифах и церковных гимнах, которые нашли поддержку во время и после христологических соборов, определивших Марию как Theotokos и приведших позднее к культу Марии. Апостольская традиция, судя по всему, связана с греко-римской погребальной практикой и культом героев, который через народные верования был привнесен в культ святых в христианстве.
То, каким образом иконоборцы и сторонники икон использовали свои аргументы в период иконоборчества, показывает, что как те, так и другие были жертвами своего времени. Метод, к которому прибегали обе стороны, является методом подтверждения авторитета отцов церкви и традиции, которые были в то время доступны. Как результат, не было ни одной серьезной попытки подойти к традиции и трудам отцов церкви и исследовать их с историко-критической точки зрения. Этого до сих пор не хватает большинству современных православных богословов, что лишний раз показывает слабость православного богословия.
Разумеется, объективный подход к иконе требует сопоставления аргументов иконоборцев и сторонников икон. С одной стороны, мы не можем сбрасывать со счетов аргумент иконоборцев о том, что не существует никакой истинной апостольской традиции, имеющей отношение к иконам, следовательно, идея почитания икон родилась гораздо позже. С другой стороны, мы не можем не принимать в расчет утверждение сторонников иконы о значении материи и ее применении в христианском богослужении.
Если смотреть с библейской точки зрения, то подход православия к использованию Писания в поисках поддержки почитания икон представляет главную слабость в богословии икон. Тот факт, что православная церковь уделяет слишком много внимания философским концепциям и духовному толкованию, показывает влияние неоплатонической философии на толкование Писания и отсутствие внимания к буквальному и историческому контексту. Это приводит к неправильному истолкованию тех или иных мест Писания, в качестве аргументов в пользу иконы. Современные православные богословы должны внести дополнительные разъяснения, чтобы аргументация иконы на основе Писания соответствовала характеру современной экзегетики и герменевтики, беря во внимание различные аспекты экзегезы и герменевтики во всей ее сложности и многоликости.
Различие между теорией и практикой по отношению к иконам в православной церкви поднимает вопрос о надлежащем образовании среди мирян. Существование суеверия и опасность идолопоклонства в богослужении возлагают особую пасторскую и душепопечительскую ответственность на православную церковь.
Правильное понимание икон и правильный подход к ним во свете исторических, философских, догматических и библейских вопросов позволяет нам сделать следующие выводы:
Во-первых, икона представляет собой священное искусство, которое свидетельствует об исторической истине и Божьем откровении в Личности Иисуса Христа. Она занимает достойное место в христианском наследии и как таковая представляет из себя ценную видимую поддержку Благой Вести, провозглашенной через Слово, которое стоит на первом месте и представляет из себя главный инструмент провозглашения Божьего откровения.
Во-вторых, икону надо рассматривать как объект, который напоминает о событиях священной истории Церкви, независимо от того, имеют ли они отношение к Евангелию и Благой Вести в целом, или к жизни отдельных людей, ставших прекрасным примером христианской жизни. Икона должна выполнять ту дидактическую роль, которую ей отвели на Седьмом Экуменическом соборе. Однако любое предположение о том, что икона обеспечивает реальное присутствие прототипа или служит неким каналом передачи благодати, неизбежно ведет к опасности идолопоклонства и суеверия.
И наконец, ценность иконы должна быть заново пересмотрена теми церквами, которые не попали под влияние православной традиции, но на которые оказало воздействие богословие Реформации или их собственные предубеждения и подозрения. Это позволит иконе стать частью христианского богослужения и наследия в рамках неправославной традиции, а также даст всем нам возможность оценить вклад православия во вселенское христианство.
Седьмой Экуменический Никейский собор
Мы неприкосновенно сохраняем все церковные предания, утвержденные письменно или неписьменно. Одно из них заповедует делать живописные иконные изображения (εἰκονικῆς ἀναζωγραφήσεως); так как это согласно с историей евангельской проповеди, служит подтверждением того, что Бог Слово истинно, а не призрачно вочеловечился, и служит на пользу нам: потому что такие вещи, которые взаимно друг друга объясняют, без сомнения и доказывают взаимно друг друга.
На таком основании мы, шествующие царским путем и следующие божественному учению святых отцов наших и преданию кафолической церкви — ибо знаем, что в ней обитает Дух Снятый, — со всяким тщанием и осмотрительностью определяем, чтобы святые и честные иконы предлагались точно так же, как и изображения честного и животворящего креста, будут ли они сделаны из красок или (мозаических) плиточек или из какого-либо другого вещества (επιτηδείως) и будут ли находиться в святых церквах Божиих на священных сосудах и одеждах, на стенах и на дощечках или в домах и при дорогах, а равно будут ли это иконы Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа или непорочной Владычицы нашей святой Богородицы, или честных ангелов и всех святых и праведных мужей. Чем чаще при помощи икон они делаются предметом нашего созерцания, тем более взирающие на эти иконы возбуждаются к воспоминанию о самых первообразах, приобретают более любви к ним и получают более побуждений воздавать им лобызание, почитание и поклонение (προσκύνησιν), но никак не то истинное поклонение (λατρείαν), которое, по вере нашей, приличествует одному только божественному естеству, но приносим иконам фимиам в честь их и освящаем их, подобно тому, как делаем это и в честь изображения честного и животворящего креста, святых ангелов и других священных приношений и как, по благочестивому стремлению, делалось это обыкновенно и в древности; потому что честь, воздаваемая иконе, относится к ее первообразу и почитающий икону поклоняется ипостаси изображенного на ней. Такое учение содержится у святых отцов наших, то есть, в предании кафолической церкви, которая распространила Евангелие от одного края земли до другого. Таким образом мы следуем Павлу и всему сонму божественных апостолов и святых отцов, содержа принятые нами предания. Таким образом мы пророчески воспеваем церкви победные песни: «Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй, Израиль! веселись и радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима! Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего! Господь, царь Израилев, посреди тебя: уже более не увидишь зла» (Софония 3:14-15).
Итак, мы определяем, чтобы осмеливающиеся думать или учить иначе, или по примеру непотребных еретиков презирать церковные предания и выдумывать какие-либо нововведения, или же отвергать что-либо из того, что посвящено церкви, будет ли то евангелие, или изображение креста, или иконная живопись, или святые останки мученика, а равно (дерзающие) с хитростию и коварно выдумывать что-либо для того, чтобы ниспровергнуть хотя какое-либо из находящихся в кафолической церкви законных преданий, и наконец (дерзающие) давать обыденное употребление священным сосудам и досточтимым обителям, — определяем, чтобы таковые, если это будут епископы или клирики, были низлагаемы, если же будут иноки или миряне, были бы отлучаемы.
Aghiorgoussis, М., «Sin In Orthodox Dogmatics», St. Vladimir's Theological Quarterly, 21 4 (1977) 179-90.
Alexander, P.J., The Patriarch Nicephorus of Constantinople, Ox-ford: At the Clarendon Press, 1958.
— —, «An Ascetic Sect of Iconoclasts in Seventh Century Arme-nia», Late С1аssica1 and Medieval Studies in Honor of Albert Matthias Friend, Jr., (1955) 151-70.
Alfoldi, А., The Conversion of Constantine And Pagan Rome, Oxford: At the Clarendon Press, 1948.
Anastos, М. V., «The argument for Iconoclasm As presented by the Iconoclastic Council of 754», in М.V. Anastos, Studies in Byzantine Intellectual History, London: Variorum Reprints, 1979, 177-88.
— —, «The Ethical Theory of Images Formulated by the Iconoclasts in 754 and 815», in M. V. Anastos, Studies in Byzantine Intellectual History, London: Variorum Reprints, 1979, 153-60.
Baggley, J., Doors of Perception — icons and their spiritual siginificance, London & Oxford: Mowbray, 1987.
Baker, D.L., Two Testaments, One Bible, England: Apollos, 1991г.
Baldock, J., Christian Simbolism, Dorset, Shaftesbury: Element, 1990.
Balthasar, Н.U.V., Presence and Thought Essay on the Religious Philosophy of Gregory of Nyssa, San Francisco: А Communio Book Ignatius Press, 1995.
Barnard, L., «The Theology of Images», in Iconoclasm, Papers given at the Ninth Spring Symposium of Byzantine Studies: University of Birmingham, Centre for Byzantine Studies, 1975, 7-14.
Ваrnes, J. (ed,), The Complete Works of Aristotle, Vol.1, Princeton: Princeton University Press, 1984.
Barrow, R. H., The Romans, England: Penguin Books, 1949.
Barth, М., Colossians, New York: The Anchor Bible, 1994.
Bauckham, R., (eds.), Scripture Tradition And Reason, Edinburgh: Т Drewery, В. & Т Clark, 1988.
Baus, К., History of the Church From the Apostolic Community to Constantine, London: Burns & Oates, Vol.1, 1980.
Baynes, N.Н., «The Icons before Iconoclasm», Harvard Theologiсаl Rеviеw, 44 (1950) 93-106.
Bediako, К., Theology & Identity, Oxford: Regnum Books, 1992.
Benko, S., Радап Rome and the Early Christians, London: В.Т. Batsford Ltd, 1984.
Bevan, Е., «Idolatry», Edinburgh Review, 66 1 (1926), 253-72.
Billington, J.Н., The Icon and the Axe, London: Weidenfeld and Nicol son, 1966.
Boggis, R.J., Praying for the Dead, London: Longmans, Green, And СО., 1913.
Болотов, A., Лекции по истории Древней церкви, Москва: Издание Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигального монастыря, 1994.
Борисов, А., Побелевшие нивы, Москва Лига Фолиант Издательское предприятие, 1994.
Bowman, A. К., Egypt after the Pharaohs: 332 B.C. — A. D. 642 from Alexander to the Arab Conquest, Oxford: Oxford university Press, 1990.
Bray, С., «Justification And Eastern Orthodox Churches», in J. I. Packer, Here We Stand, London: Hodder and Stoughton, 1986.
— —, Biblical Interpretation past & present, Leicester: Apollos, 1996.
Breck, J., The Power of the Word in the Worshipping Church, New York: St. Vladimir’s Seminary Press, 1986.
О’Brien, P. Т., Colossians, Philemon, Waco: Word Books, 1982.
Bright, J., The Authority of the Old Testament, Great Britain: Abingdon Press, 1967.
Brown, С., Phtlosoghy and the Christian Faith, London: Tyndale Press, 1971.
Brown, P., «А Dark-Age crisis: aspects of the Iconoclastic controversy», English Historical Review, 88 (1973) 1-34.
— —, Society and the Holy in Late Antiquity, London: Faber and Faber, 1982.
— —, The Making of Late Antiquity, Cambridge, Massachusetts and London, England: Harvard University Press, 1978.
— —, «The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity», JRS, LX1, (1971), 80-101.
— —, The Cult of the Saints, London; SCM Press, 1981.
Budd, Р, J., Numbers, Texas: Word Books, 1984.
Budge, Е.А.W., The Mummy, London: Senate, 1995.
Bulgakov, S., The Orthodox Church, Crestwood, New York: St. Vladimir's Seminary Press, 1988.
Burkert, W., Greek Religion, Cambridge, Massachusets: Harvard University Press, 1985.
Burrows, М., «Old Testament Ethics and the Ethics of Jesus», in J.L. Crenshaw, J.Т. Willis (eds.), Essays in Old Testament Ethics, New York: KTAV Publishing House, 227-43.
Bychkov, V., The Aesthetic Fасе of Being, Crestwood, NY: St Vladimir's Seminary Press, 1993.
Cameron, A., Christianity and the Rhetoric of Empire, Berkeley; Los Angeles, Oxford: University of California Press, 1991.
— —, Continuity and Change in Sixth-Century Byzantium, London: Variorum Reprints, 1981.
Candea, V., «Icons», in М. Eliade (ed.), The Encyclopedia of Religion, New York: MacMillan Publishing Company, London: Collier MacMillan Publishers, Vol.7, 1987; 67-70.
Carson, D.A., The Gospel According to John, Leicester: IVP, 1991.
Cavarnos, С., Byzantine Thought And Art, Massachusets: Institute for Byzantine and Modern Greek Studies, I988.
— —, «Knowing God Through Icons and Hymnody», The Greek Theological Review, 23 3/4 (1978) 282-98.
Chadwick, Н., The Early Church, Endland: Penguin Books, 1967.
— —, «ST. PETER AND ST. PAUL IN ROME: ТНЕ PROBLEM OF THE MEMORIA APOSTOLORUM AD CATACUNBAS», JTS 8-9 (1957-58) 31-52.
Clarke, С. P.S., Church History from Nero to Constantine; London and Oxford: A. R. Mowbray & СО. Ltd., 1920.
Clements, R. Е., Exodus, London: Oliphants, 1971.
Clendenin, D. В., (ed.), Eastern Orthodox Theology, Grand Rapids: Baker Books, 1995.
Cole, A., Exodus, London: The Tyndale Press, 1973.
Coniaris, A.М., Introducing The Orthodox Church, Minnesota: Light and Life Publishing Company, 1982.
Cracraft, J., The Church Reform of Peter the Great, Bristol: MacMillan, 1971.
Craigie, P.С., The Book of Deuteronomy, Grand Rapids: William В. Eerdmans Publishing Company, 1976.
Cunliffe-Jones, Н., (ed.) History of A Christian Doctrine, Edinburgh: Т&Т, Clark, 1978.
Danielou, J., Marrou, Н., (eds.), The Christian Centuries. The First Six Hundred Years, Vol.1, London: Darton, Longman & Todd Ltd., 1964.
Danielou, J., Gospel Message and Hellenistic Culture, London: Darton, Longman & Todd Ltd., 1973,
Dean, Н. D., «Byzantine Northern Syria, А. D. 298-610: integration and disintegration», PhD Dissertation, Los Angeles University of California, 1987.
Dickinson, С. I, The Greek View of Life, London: Methuen & CO. Ltd., 1957.
Dodds, Е. R., Раgаn And Cristian In An age Of Anxiety, Cambridge: At The University Press, 1965.
Dobroklonskii, А.J., (ed.), Theodore? Confessor and Abbot of the Studium, Odessa: Economicheskaja Tipografija? 1913.
Dorries, Н., Constantine The Great, New York, Evanston, San Francisco, London: Harper & Row, Publishers, 1972.
Dragas, G.D., «St John Damascene’s Teaching about the Holy Icons», in G. Limouris, Icons Windows on Eternity, Geneva: WCC Publications, 1990,
Drane, J., In Introduction То Тhe Bible, Oxford: A Lion Book, 1990/
Drobot, С., «Icons: Lines, Language, Colours, and History», in G. Limouris, Icons Windows on Eternity, Geneva: WCC Publications, 1990, 160-68.
Dvornik, F., «The Patriarch Photius and iconoclasm»? DOP, 7 (1953) 69-97.
Дунаев, M., «Собирайте сокровища на небе», Православная беседа, 4 (1994) 11-14.
Durham, J.I., Exodus, Texas: Word books publisher, 1987.
Eiiui, J., The Humiliation of the Word, Grand Rapids, Michigan: William В. Eerdmans Publishing Company, 1985.
Evdokimov, P., The Art of the Icon: a theology of beauty, California: Oakwood Publications, 1990.
Живов, В. М., Богословие иконы в период иконоборческих споров, Резюме сообщений, II, L-Z, (1991) 1275-76.
Fearghail, F. О»., «Рhi1о and the Fathers: The Letter and the Spirit», Т. Finan, V. Twomey (eds.), Scriptura1 Interpretation in the Fathers, Cambridge: Four Courts Press, 1995, 39-59.
Ferguson, J., Greek And Roman Religion, Milton Keynes: The Ореn University Press, 1977.
— —, The Religions of the Roman Empire, Great Britain: Thames and Hudson, 1974.
Festugiere, А.J., Personal Religion Among the Greeks, Berkeley: University of California, 1960.
Т. Finan, V., Twomey (eds.), Scriptural Interpretation in the Fathers, Cambridge: Four Courts Press, 1995, 61-74.
Finney, Р. С., The Invisible God, Oxford: Oxford University Press, 1994.
Flesseman-Van Lеег, Е., Tradition And Scripture in the Early Church, Assen, Netherlands: Van Gorcum & Comp; N. V. У G.а. Hak & Dr Н.J. Prakke, 1954.
Флоренский, П.A., Столп и Утверждение Истины, Париж: YMCA-Пресс, 1989.
— —, У Водоразделов Мысли. Статьи по исскусству, Париж: YMCA-Пресс, 1985.
— —, Иконостас, Москва: Исскуство, 1995.
Florovsky, С., Collected Works, Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox view, vol.1, Nordland, Belmont, Massachusetts, 1972.
Fox, R.L., Pagans and Christians, Great Britain: Penguin Books, 1986.
France, R. Т., Matthew, Leicester: IVP, 1985.
French, R. М., The Eastern Orthodox Church, London:
Hutchinson's University Library, 1957.
Frend, W.Н.С., Archaeology and History in the Study of Early Christianity, London: Variorum Reprints, 1988.
— —, Religion Popular and Unpupular in the Early Christian Centuries, London: Variorum Reprints, 1976.
Frethem, Т. Е., Exodus, Louisville: John Knox Press, 1991.
Gates, М. Н., «Dura Europos: А Fortress of Syro-Mesopotamian Art», Biblical Archaeologist, 47 3 (1984) 166-81.
Gero, S., «The True Image of Christ: Eusebius’ Letter To Constantia Reconsidered», JTS, 32 (1981) 460-70.
— —, «Byzantine Iconoclasm and Monachomachy», JEH 28 (1977), 241-48.
Giakalis, A., Images of the Divine. The Theology of Icons at the 7th Ecumenical Council, Leiden: Е,J. Brill, 1993.
Goldingay, J., Approaches to Old Testament Interpretation, England: Apollos, 1990.
— —, Theological Diversity and the Authority of the Old Testament, Carlisle: Paternoster Press, 1987.
Goldsworthy, G., Gospel and Kingdom, Lancer: The Paternoster Press, 1981.
Gonzalez, А. Е.J., Chapman, N. С., «The Lex Orandi of the Eastern Church Critical Addenda to Professor Davies Assesment of Orthodox Worship», The Greek Orthodox Theological Review, 23 1 (53-68) 1978.
Goppelt, L., TYPOS The Typological Interpretation of the Old Testament in the New, Grand Rapids, Michigan: William В. Еerdmans Publishing Company, 1982.
Gough, М., The Origins of Christian Art, London: Thames and Hudson, 1973.
Grabar, А., Christian Iconography: А Study of Its Origins, New York: Princeton University Press, 1968.
Grabar, I., «Ancient Russian Painting», in Ancient Russian Icons, (1929) 3 5-10.
Graef, Н., Mary А History of Doctrine and Devotion, London; Christian Classics and Sheed & Ward, l965.
Grant, R.М., «The Appeal to the Early Fathers», JTS, 10/11 (1959-60) 13-24.
Grigg, R., «Aniconic Worship And the Apologetic Tradition: А Note on Canon 36 of the Council of Elvira», Church History, 45 (1976) 428-33.
Gross, К., Spencerian Poetics, Ithaca and London: Cornell University Press, 1985.
Grudem, W., Systematic Theology An Introduction to Biblical Doctrine, Leicester, England: Inter-Varsity Press, Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1994.
McGuckin, J.A., «Theology of Images and the Legitimation Of Power in Eighth Century Byzantium, St. Vladimir’s Theological Quarterly, 37 1 (1993) 39-58.
Gunton, С.E., Christ And Creation, Carlisle: The Paternoster Press, Grand Rapids, Michigan: William В. Eerdmans Publishing Company, 1992.
Hall, S. G., Doctrine And Practice In The Early Church, London: SPCK, 1991,
Hamilton, E., Cairns, H.,(eds.), The Collected Dialogues of Plato Princeton: University Press, 1961.
Hanson, R. P.С., Studies in Christian Antiquity, Edinburgh: Т.&Т. Clark Ltd., 1985.
— —, Tradition in the Early Church, London: SCN Press, 1962.
— —, «The Church And The Tradition In The Pre-Nicene Fathers», SJT; 12 (1959) 21-31.
Harakas, S.S., «Orthodox Ethics», D.J. Atkinson, D.H. Field (eds.), New Dictionary of Christian Ethics And Pastoral Theology, Leicester: IVP, 1995, 643-44.
Harnack, A., History of Dogma, New York: Russell and Russell, 1958.
Harrison, R, К., Numbers, Chicago: Moody Press, 1990.
Hasel, G.F., O1d Testament Theology, Grand Rapids, Michigan: William В. Eerdmans Publishing Company, 1972.
Henry, P., «What was the Iconoclastic Controversy About?», CH,
45 (1976) 16-31.
Herrin, J., The Formation of Christendom, London: Fontana Press, 1987.
— —, «The Context of Iconoclast Reform», in Iconoclasm, Papers given at the Ninth Spring Symposium of Byzantine Studies: University of Birmingham, Centre for Byzantine Studies, (1975) 15-20.
— —, «In Search of Byzantine Women: Three Avenues of Approach», in A. Cameron & A. Kurht (eds.), Images of Women in Antiquity, London & Canberra: Croom Helm, 1983.
— —, «Women And The Faith In Icons In Early Christianity», in R. Samuel & G. S. Jones (eds.), Culture, Ideology and Pohtics, London: Routledge & Kegan Paul, 1982.
Hoekema, Л. Л., Created in God’s Image, Grand Rapids, Michigan: William. И. Eerdmans Publishing Company, 1986
Hopko, Т., All the Fulness of God, Crestwood, New York: St. Vladimir's Seminary Press, 1982.
Hertling, L.S.J., Kirshbaum, Е. S.J., The Roman Catacombs And Their Martyrs, London: Darton, Longman & Todd, 1960.
Hoekema, А.А., Created in God' s Image, Grand Rapids, Michigan: William В. Eerdmans Publishing Company, Carlisle: The Paternoster Press, 1986.
Hussey, J. N., The Orthodox Church in the Byzantine Empire, Oxford: Clarendon Press, 1986.
Hutter, I, The Herbert History of Art and Architecture. Early Christian and Byzantine, London: The Herbert Press, 1988.
Ivanov, V., «Iconography and Icon», in G. Limouris (ed.), Icons Windows on Eternity, Geneva: WCC Publications, 1990, 149-58.
Jachec, N., «Women and the Cult of Icons», МA Report Submitted to the Courtald Institute of Art, University of London,1987.
St. John of Damascus, On The Divin Images, Crestwood, New York: St. Vladimir's Seminary Press, 1980.
Jurgens, W.A., The Faith of the Ear1y Fathers, vol. 3, Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1979.
Языкова, И.К., Богословие иконы, Москва: Издательство Общедоступного Православного университета, 1995.
Kaiser, J. W.С., Toward Old Testament Ethics, Grand Rapids: Academie Books, 1983.
Kalokyris, С. D., The Essence of Orthodox Iconografphy, Brookline, Massachusets: Holy Cross Orthodox Press, 1965.
Карташев, A. В., Вселенские Соборы, Москва: Издательство Республика, 1994.
Кеllу, J.N.D., Early Christian Doctrines, London: A&C Black, 1989.
Kenna, М. Е., «Icons In Theory And Practice: An Orthodox Christian Example», History of Religions, 24 (1984-85) 345-68.
Kitzinger, Е., «The Cult of Images in the Age Before Iconoclasm», DOP, 8 (1954) 83-150.
— —, Byzantine Art in the Making, Cambridge, Massachusets: Harvard University Press, 1980.
Klein, W. W., Blomberg, С. L., Hubbard, J. R. L.(eds.)., Introduction to Biblical Interpretation, Dallas, London: Word Publishing, 1993.
Клейман, О., Беседы с Патриархом Афинагором, Брюссель: Издательство Жизнь с Богом, 1993.
Koester, Н., History, Culture And Religion of the Hellenistic Аде, Vol.1, Philadelphia: Fortress Press, Berlin and New York: Walter De Gruyter, 1982.
— —, History and Literature of Earl y Christianity, Vol.2, Philadelphia: Fortress Press, Berlin and New York: Walter De Gruyter, 1982.
Kondakov, N.P., The Russian Icon, Oxford: MCMXXVII At the Clarendon Press, 1927.
Kruse, С., 2 Corinthians, Leicester; IVP, 1987.
LaCugna, С.М., GOD FOR US, San Francisco: Harper Collins, 1973.
Ladner, G.В., «The Concept of the Image in the Greek Fathers and the Byzantine Iconoclastic Controversy», DOP, 7 (1953) 3-22.
Lampe, С. W.Н., «Christian Theology in the Patristic Period», in Н. Cunliffe-Jones, В. Drewery (eds.), А History of Christian Doctrine, Edinburgh: Т. & Т. Clark, 1978.
Lane, A. N.S., «Scripture, Tradition and Church; An Historical Survey», Vox Evange1ica, 7-9 (1971-75) 37-50.
Lillie, W., Studies in New Testament Ethics, Edinburgh and London: Oliver And Boyd, 1961.
Limouris, G., «The Microcosm and Macrocosm of the Icon: Theology, Spirituality and Worship in Colour», in С. Limouris, Icons Windows on Eternity, Geneva: WCC Publications, 1990.
Lindars, В., The Gospei of John, London: Oliphants, 1972.
Lossky, V., In the Image and Likeness of God, London&Oxford: Mowbrays, 1974.
— —, The Mystica1 Theology of the Eastern Church, Cambridge & London: James Clarke&CO. Ltd., 1973.
— —, Orthodox Theology, Crestwood, New York: 5t. Vladimir's Seminary Press, 1978.
— —, The Vision of God, Crestwood, New York: St. Vladimir's Seminary Press, 1983.
Маhdу, С.Е., Mummies, Myth and Magic in Ancient Egypt, London: Thames and Hudson Ltd., 1989.
Mango, С., The Art of the Byzantine Empire 312-1453, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1972.
— —, «Historical Introduction», in Iconoclasm, Papers given at the Ninth Spring Symposium of Byzantine Studies: University of Birmingham, Centre for Byzantine Studies, (1975) 1-6.
Nantzaridis, G. I., The Deification of Man, New York: St. Vladimir's Seminary Press, 1984.
Marshall, R.Н., «Iconostasis», in P.К. Meagher, Т.С. О'Brien, С.М. Aherne (eds.), Епсусlореdic Dictionary of Religion, Vol. F-N, Washington, D. С.: Corpus Publications, 1979, 1760.
Mascall, Е. L., Theology and Images, London: А. R. Mowbray & Со Ltd., 1963.
Matthew, G., Byzantine Aesthetics, London: John Murray, 1963. Mathews, Т.F., The Clash of Gods А Reinterpretation of Еаrly Christian Art, Princeton: Princeton University Press, 1993.
Мейендорф, И., Византия и Московская Русь, Париж: YNCA-Пресс, 1990.
Меуеndorff, J., Christ in Eastern Christian Thought, Crestwood, New York: St. Vladimir's Seminary Press, 1987.
— —, Imperial Unity and Christian Divisions, New York: St. Vladimir's Seminary Press, 1989.
— —, Catholicity and the Church, Crestwood, New York: St. Vladimir's Seminary Press, 1983.
— —, Byzantine Theology, London & Oxford: Nowbrays, 1974.
— —, Gregory Palamas. The Тriads, London: SPCK, 1983.
— —, А Study of Gregory Palamas, Leighton Buzzard: The Faith Press, 1964.
— —, The Byzantine legacy in the Orthodox Church, Crestwood, New York: St. Vladimir's Seminary Press, 1982.
Meyendorff, J., Salvation in Christ А Lutheran Orthodox Dialogue, Augsburg: Tobias, R., (eds.), Fortress, 1992.
Meyers, Е.М., «Early Judaism and Christianity in the Light of Archaeology», Biblical Archaeologist, 51 2 (1988) 69- 79.
Miller, R., Early Christian Art and Architecture, England: Scholar Press, 1988.
Miller, P. D., Deuteronomy, Louisville: John Knox Press, 1990.
Miranda, J.P., Marx and the Bible, London: SCN Press, 1977.
Morenz, S., Egyptian Religion, London: Methuen & СО Ltd., 1960.
Morris, L., The Gospel According to John, Grand Rapids: William В. Eerdmans Publishing Company, 1995.
Murrey, С., «Art and the Early Church», JTS 28 2 (1977) 303-45.
Niesel, W., Reformed Symbolics. A Comparison of Catholicism, Orthodoxy and Protestantism, Edinburgh & London: Oliver And Boyd, 1962.
Nilsson, M.P., Greek Piety, Oxford: At The Clarendon Press, 1948.
Nissiotis, N., «Mary in Orthodox Theology», Concilium 168 (1983) 25- 39
Окунев, Н.О., «Иконы», Энциклопедический Словарь, Том 1, (1994) 599-600.
Osborn, E., The Beginning of Christian Phtlosophy, Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
Oswalt, J.N., The Book of Isaiah Chapters 1-39, Grand Rapids: William В. Eerdmans Pubhshing Company, 1986.
Ouspensky, L., Lossky, V., The Meaning of Icons, New York: St. Vladimir’s, Seminary Press, 1989.
Ouspensky, L., Theology of the Icon, 2 Vols., Crestwood New York; St. Vladimir's Seminary Press, 1992.
J. R.Payton, «Calvin and the Legitimation of Icons: His Treatment of the Seventh Ecumenical Council», Archive for Reformation History, 84 (1993) 222-41.
Pelikan, J., The Spirit of Eastern Christendom (600-1700), Vol. 2, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1974.
— —, Imago Dei, New Haven and London: Yale University Press, 1990.
— —, The Melody of Theology А Philosophical Dictionary, London, England, Cambridge, Massachusets: Harvard University Press, 1988.
— —, The Vindication of Tradition, New Haven and London: Yale University Press, 1984.
Philippou, A. J., The Orthodox Ethos Studies in Orthodoxy, Vol. 1, Oxford: Holywell Press, 1963.
Pixley, G. V., On Exodus, New York: Orbis Books, 1987
Pope, R.N., An Introduction to Early Church History, London; MacMillan and СО Ltd., 1918.
Preobrazhensky, А., (ed.), The Russian Orthodox Church, Moscow: Progress Publishers, 1988.
Price, S. R.F., Rituals And power the Roman imperial cuit in Asia Minor, Cambridge University Press, 1984.
Pseudo-Dionisius, The Complete Works, New York: Paulist Press, 1987
Quenot, N., The Icon Window on the Kingdom, New York: St. Vladimir's Seminary Press, 1991.
J. Raya, Theotokos Bearer of God, Combermere: Madonna House Publications, 1995.
Resnick, J.N., «Idols and Images; Early Definitions and Controveries», Sobornost, 7 2 (1985) 35-51.
Ringbom, S., «Icon to Narrative The Rise of the dramatic close-up in fifteenth century devotional painting», Acta Academiae Aboensis, 31 2 1-233.
Rodger, P. С., (eds.), The Fourth World Conference On Faith And Order, London: Vischer, L.,SCN Press, 1964.
Rorem, P. Е., «Iamblichus and the Anagogical Method in Pseudo-Dionysiah Liturgical Theology», Studia-Patristica, 17 (1982) 453-60.
Rossum, J., «The logoi of Creation and the Divine «energies» in Maximus the Confessor and Gregory Palamas», in Е.А. Livingstone (ed.), Studia Patristica, XXVII (1993) 212- 217.
Russell, В.; History of Western Philosophy, London: George Allen & Unwin Ltd., 1961.
Sahas, D.J., Econ and Logos Surces in Eighth-Сentury Iconoclasm, Toronto: The University of Toronto Press, 1986.
Santer, М., «Scripture and the Councils», Sobornost, 7 2 (1975) 99-110.
Schmemann, A., The H1storical Road of Eastern Orthodoxy, London; Harvill Press, 1963.
Scott, С.А.А., New Testament Ethics, Cambridge: At the University Рыж, 1930.
Schreiner, Т. R., The Law and Its Fulfilment, Grand Rapids: Baker Books, 1993.
Setton, К. М., Christian Attitude Towards the Emperor in the Fourth Century, New York: ANS Press„1967.
Sheehan, R.J., «Law and Gospel», D.J. Atkinson, D.Н. Field (eds.), New Dictionary of Christian Ethics and Pastoral Theology, Leicester: IVP, 1995, 540-41.
Sheldon-Williams, I. P., «The Philosophy of Icons», in Armstrong, А. Н.(ed.), The Cambridge History Of Later Greek And Early Medieval Philosophy, Cambridge: At the University Press, 1967.
Shiel, J., Greek Thought and the Rise of Christianity, London and Harlow: Longmans, Green and СО Ltd., 1968.
Slesinski, R., Pavel Florensky: A Metaphysics of Love, Crestwood, New York: St. Vladimir's Seminary Press, 1984.
Smith, J. Н., The Death of Classical Paganism, London and Dublin: Geoffry Chapman Publishers, 1976.
Смирнов, Ф.А., «Иконоборчество», Энциклопедический Словарь, 1, (1994) 596-97.
Snyder, G. F., Ante Pacem, USA: Mercer University Press, 1985.
Speegle, Т.D., The Lifе and Theology of Images of Saint John of Damascus, Unpublished МА thesis, The University of Texas at Arlington, 1987.
Spencer, А.J., Death in the Ancient Egypt, Harmondsworth: Penguin, 1982.
Staniloae, D., Theology and the Church, New York: St. Vladimir's Seminary Press, 1980.
Steeves, P.D., «Images, Veneration of», in W.А. Elwell (ed.), Evangelical Dictionary of Theology, Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1984, 548-49.'
Stuart, J., Ikons, London: Faber and Faber, 1975.
Taylor, J.Е., Christians and the Holy Places, Oxford: Clarendon Press, 1993.
Terry, М.S., Biblical Hermeneutics, Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1974.
St. Theodore The Studite, On The Holy Icons, Crestwood, New York: St. Vladimir's Seminary Press, 1981.
Thiselton, A. С., Nеw Horizons in Hermeneutics, London: Harper Collins Publishers, 1992.
Timiadis, Е., «God's Immutability and Communicability», in T.F.Tormanсе (ed.), Theological Dialogue Between Orthodox And Reformed Churches, Vol. 1, Edinburgh and London: Scottish Academic Press, 1985.
Timothy, Н. В., The Early Christian Apologists And Greek Philosophy, Assen, Netherlands: Van Gorcum & Comp. В. V., 1973.
Tsirpanlis, С.N., Introduction to Eastern Patristic Thought and Orthodox Theology, Collegeville: The Liturgical Press, 1991.
Uspensky, В., The Semiotics of the Russian Icon, Lisse: The Peter De Ridder Press, 1976.
de Vyver, J. М., The Artistic Unity of the Russian Orthodox Church, Belleville, Michigan: Firebird Publishers, 1992.
Ware, Т., The Отбивок Church, Baltimore & Maryland: Penguin Books, 1964.
— —, The Orthodox Way, Crestwood: St. Vladimir's Seminary Press, 1995,
— —, «Salvation And Theosis in Orthodox Theology», in Luther Et La Reforme Allemande Dans Une Perspective Oecumenique, 3 (1983) 167-84,
— —, «The Understanding of Salvation in the Orthodox Tradition», in R. Lanooy (ed.), For Us and Our Salvation, Utrecht-Leiden: Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica, 1994.
Ware, Т., Davey, С. (eds.), Anglican-Orthodox Dialogue, London: SPCK, 1977.
Weinfeld, М., Deuteronomy 1-11, New York: The Anchor Bible, 1991.
Weitzmann, К., The Icon. Holy Images, London: Chatto&Windus, 1978.
Weitzmann, К., The Icon. Ноlу Images, London: Chatto&Windus, 1978.
— —, Greek Mythology in Byzantine Art, Princeton: Princeton University Press, 1951.
Wiles, М., The Making of Christian Doctrine, Cambridge: At The University Press, 1967.
Wilken, R.L., The Christians As The Romans Saw Them, New Haven and London: Yale University, 1984.
Williams, R. D., «The Philosophical Structures of Palamism», Eastern Churches Review, IX 1/2 (1977) 27-44.
Wolfson, Н.A., The Philosophy of The Church Fathers Faith, Trinity, Incarnation, Cambridge: Harvard University Press, 1976.
— —, Philo Foundations of Religious Philosophy in Judaism, Christianity, and Islam,Vol.1, Cambridge, Massachusets: Harvard University Press, 1947.
Write, C.J.H., LIVING AS THE PEOPLE OF GOD, England: IVP, 1983.
Zernov, N., Eastern Christendom, London: Weidenfield and Nicolson, 1961.
Zibawi, M., The Icon Its Meaning and History, Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1993.
Zielinski, T., The Religion of Ancient Greece, Chicago: Ares Publishers Inc., 1926.
Zizioulas, J.D., Being as Communion, Crestwood, New York: St. Vladimir’s Seminary Press, 1993.
Примечание издателя электронной версии.
В предлагаемом варианте книги полностью сохранены авторская орфография, пунктуация, тексты сносок. Вид в форматах doc и pdf максимально приближен к виду печатного издания. Для удобства чтения цветом выделен текст и номера сносок, имеющих кроме ссылок на документы и смысловое содержание. При чтении книги по всему тексту предлагается под словом «перевоплощение» понимать «воплощение», как более соответствующее по смыслу в традиционном русскоязычном богословии. Так же в зависимости от контекста под словом «традиция» понимать «предание».
[1] Синкретизм – смешение.
[2] J.Pelikan, Imago Dei, 49. Некоторые православные богословы (Mey-endorff, Ware, Ouspensky) предпочитают говорить об иконах в рам-ках эпох Римской и Византийской империй и, судя по всему, избега-ют говорить об их языческом происхождении. Другие (Bulgakov, Kondakov, Zernov, Quenot, Alexander, Grabar, Weitzmann, Hutter, Danielou and Маrrou (eds.), French, Coniaris, Bychkov), однако, ука-зывают на дохристианский древний мир и его культуру, чьи концеп-ции и традиции в значительной степени были унаследованы христи-анской Византией. См. J.Meyendorff, Imperial unity and Christian Divisions, 78-80; Т.Ware, The Orthodox Church, 38-43; L. Onspensky, Theology of the Icon, 35-50. См. также L. Ouspensky, V. Lossky, Meaning of Icons, 25; S. Bulgakov, The Orthodox Church, 142; N. Р.Kondakov, The Russian Icon 11-15; N. Zernov, Eastern Christendom, 277; М. Que-not, The Icon, 23; Р. J. Alexander, The Patriarch Nicephorus of Constan-tinople, 1; A.Grabar, Christian Iconography. А Study of Its Origins, 60-85; К. Weitzmann, The Econ, 8; I. Hutter, The Herbert History оf Art And Architecture. Early Christian And Byzantine, 12; J.Danielou and Н. Marrou (eds,), The First Six Hundred Years, 399; R. М. French, The Eastern Orthodox Church, 130; A. М. Coniaris, Introducing The Ortho-dox Church, 175; V. Bychkov, The Aesthetic Face of Being, 79-80.
[3] Мы ограничимся здесь научными данными, относящимися к верова-ниям и традициям, связанным с темой нашей книги.
[4] Kondakov, Ikon, 11.
[5] Zernov, Christendom 277, указывает на сходство между египетскими погребальными портретными изображениями и новгородской иконой XV века по Р.Х.
[6] Эта традиция в особенности была развита среди греков, осевших в Египте в период расцвета Греции и Рима. См. А.J. Spenser, Death in the Ancient Egypt, 192-93.
[7] С. L. Mahdy, Mummies Myth and Magic in Ancient Egypt, 70-72, отме-чает, что портрет с человека писали еще мри жизни и пока он был молод. Смысл этого состоял в том, чтобы после смерти в памяти родственников он оставался вечно молодым.
[8] Byehkov, Aesthetic, 80, цитируя Флоренского, утверждает, что между египетской погребальной маской и христианской иконой существует метафизическая связь. См. также П. Флоренский, Иконостас, 149-53.
[9] Здесь больше внимания будет уделяться эллинистическому периоду (332 г. до Р. Х. — 30 г. до Р. Х. ) египетской истории, который в нашем исследовании представляет большую важность.
[10] Spenser, Death, 30.
[11] S. Morenz, Egiptian Religion, 195.
[12] Morenz, Religion, 198-99.
[13] Ibid, 201. См, также 194.
[14] Kondakov, Icon, 12.
[15] Spenser, Death, 60.
[16] Morenz, Religion, 198-99.
[17] Kondakov, Icon, 13.
[18] Spenser, Death, 73.
[19] Quenot, Icon, 23.
[20] Е. А. W. Budge, The Mummy Funeral Rites & Customs in Anctent Egypt, 188, утверждает, что «египетские христиане, вероятно, унаследовали мумифицирование и смешали отдельные элементы древней египетс-кой мифологии с христианством, которому они сравнительно недавно последовали».
[21] А.К.Bowman, Egypt after the Pharaons: 332 В.С.— А. D. 642 from Alexander to the Arab Conquest, 201.
[22] Ibid., 201.
[23] Ibid., 202. См. также P. Brown, The Making of Late Antiquity, 92.
[24] Morenz, Religion, 200.
[25] Ibid., 202.
[26] J. М. Hussey, The Orthodox Church in the Byzantine Empire, 33.
[27] См. Bowman, Egypt, 18-20.
[28] Morenz, Religion, 244. См. также Bowman, Egypt, 18-20, 22.
[29] Ibid., 245.
[30] G. L. Dickinson, The Greek View of Life, 52.
[31] Гомер создавал свои эпические произведения о богах и героях еще до того, как появились портретные изображения и статуи, См. R. L. Fox, Pagans and Christians, 153.
[32] М. Р. Nilsson, Greek piety, 3.
[33] D. Freedberg, The Power of Images, 34. См. также W. Burkett, Greek Religion, 91.
[34] Dickinson, View, 65. См. также Burkett, Religion, 99-100.
[35] Burkett, Religion, 91. См. также J.Shiel, Greek Thought and the Rise of Christianity, 18.
[36] Dickinson, View, 254.
[37] Ibid., 254.
[38] Butkett, Religion, 207.
[39] Ibid., 208.
[40] Nilsson, Piety, 9-10.
[41] Флоренский, Иконостас, 143.
[42] Dickinson, View, 206.
[43] Ibid., 216.
[44] Ibid., 210.
[45] Ibid., 210.
[46] Weitzman, Icon, 8-9, указывает на технику поздней античности, схожей с темперой, в округло-вытянутой форме clypeus, которая использовалась в поздней античности и символизировала восхождение души на небеса. Эта форма также походила в то время на портрет. Такие формы играли важную роль в культе императора, когда его портрет носили во время процессий. Weitzman утверждает, что христиане, по крайней мере ранние, знали о важности clypeus, которые ассоциировались с восхождением души на небеса.
[47] Относительно происхождения культов на Востоке см. L. R. Taylor, The Divinity of the Roman Emperor, 1-34.
[48] K. Baus, From the Apostolic Community to Constantine, 88. См. также L. R. Taylor, The Divinity, 58, Н. Koester, History, Culture And Religion of the Hellenistic Age, 32-36.
[49] Koester, History, 89.
[50] Koester, History, Vo1. 1, 366-67.
[51] См S. Benko & J. J. О'Rourke (eds.), Early Church History, 247. Bans, Community, 90, отмечает, что после Августа римские императоры требовали, чтобы им поклонялись как богам ещё при жизни.
[52] S. R. F. Price, Rituals And Power, 178.
[53] Ibid.,89.
[54] R. Н. Barrow, The Romans, 146.
[55] V. Limberis, Divine Heiress, 35.
[56] Price, Rituals, 189-90.
[57] Kitzinger, «Cult», 122.
[58] Kitsinger, «Cult», 123, утверждает, что такой взгляд не обладал магической силой.
[59] Price, Rituals, 203.
[60] Е.J. Martin, А History Of The Iconoclastic Controversy, 19. См. также Bevan, «Idolatry», ER, 66 1 (1926) 259, который утверждает, что первые скульптурные изображения Христа создавались еретиками.
[61] Е. М. Meyers, «Early Judaism and Christianity in the light of archeology», in ВА, 51 2 (1988) 69.
[62] Некоторые исследователи утверждают, что фрески, обнаруженные в местечке Дура Европос, имеют отношение к созданию образов в иудейской диаспоре, из чего следует, что иудаизм не выступал против образов. Однако такое утверждение беспочвенно, поскольку один -единственный пример далеко не всегда подтверждает истину и не создает базис для общепринятого принципа. См. М.Gough, The Origin of Christian Art, 26-30. См. также N. Н. Gates, «Dura-Europos: А Fortress of Syro-Mesopotamian Art», в ВА, 47 3 (1984) 16б-70.
[63] Р.S.Finney, The lnrnstble Cod, 10. Е.Kitzinger, Byzantine Art in the Making, 19, однако, считает, что у христиан было негативное отно-шение к искусству, поскольку они сравнивали творение образов с языческими культами и языческим образом жизни в целом, а не с ветхозаветными запретами.
[64] С. F. Snyder, Ante Pacern, 2. См. также Finney, God, 131. R, Nilburn, Early Christran Art and Architecture, 1.
[65] W. Н. С. Frend, Archaeology and history in the Study of Early Christianity, 53-54.
[66] Milburn, Art, 2.
[67] Snyder, Pacem, 184.
[68] Ibid., 13-14.
[69] Gates, «Dura-Europos», 166.
[70] R. L. Wilken, The Christians As The Romans Saw Them, 80-81.
[71] Hutter отмечает, что до середины IV века по P. Х. страдания Христа не изображались. History, 12. Однако, Snyder, Pacem, 1б5, утвержда-ет, что страдания Христа на кресте в изобразительном искусстве появились в V веке по P. Х.
[72] Snyder, Pacem, 29.
[73] Hutter, History, 12.
[74] R. N. Pope, An Introduction To Early Church History, 143.
[75] Snyder, Pacem, 56.
[76] Ibid,, 48.
[77] Snyder указывает на трапезы, посвященные умершим, молитвы, об-ращенные к ним, и веру в их способность защитить — особенности, характерные и для греко-римской, и египетской религий. Pacem, 16, 18, 65. См. также Shiel, Greek Thought, 56-57.
[78] Hutter, History, 8.
[79] Hutter, History, 7.
[80] Ferguson, Religion, 33. См. также Snyder, Pacem, 62; Н.Dorries, Cons-tantine The Great, 178-81.
[81] Ibid., 7.
[82] Smith, The Death of Classical Paganism, 61.
[83] Ibid., 61.
[84] Ibid., 61.
[85] Hutter, Hastory, 13.
[86] A. Harnack, History of Родтпа, Vol.4, 307, отмечает, что в IV — V веках по Р. Х. в результате всеобщего «официального обращения в веру» церковная дисциплина, а также духовные и нравственные стандарты были ослаблены.
[87] С. Р. S. Clarke, Church History from Nero to Constantine, 317, 332-333. Harnack, History, Vо1.4, 304-12, утверждает, что существовало хрис-тианство «второго сорта», которое практиковало язычество.
[88] Hutter, History, 8.
[89] Snyder, Pacem, 62. Ferguson, Religion, ЗЗ. А. Alfoldi, The Conversion of Constantine and Pagan Rome, 116.
[90] Hutter, History, 12.
[91] Snyder, Расет, 55. См. также Hutter, History, 8. K. Ware, «Christian Theology in the East 600-1453», в книге Н.Cunliffe-Jones, (ред.), А History of Christian Doctrine, 191, отметил, что к 400 г, по P.Х, изображение Христа были приемлемо в церкви. Однако в те годы оно не было предметом поклонения, а использовалось в целях украшения и наставления.
[92] Hutter, History, 13.
[93] Quenot, Icon, 22.
[94] G. В. Ladner, «The Concept of the Image in the Greek Fathers and the Byzantine Iconoclastic Controversy», DOP, 7 (1953) 21, утверждает, что представления христиан о царе как о помазаннике Бога и Его наместнике произошли от трудов неоплатонизма и были восприняты такими христианскими богословами как Евсевий.
[95] Ware, «Christian Theology», 192.
[96] J. Meyendorff, Imperial Unity, 78.
[97] P. J. Alexander, Patriarch, 5.
[98] Е. Kitzinger, «Cult», 117-18.
[99] P. J. Alexander, Patriarch, 4-5.
[100] H.D. Dean, «Byzantine Northern Syria, А.D. 298-610: integration and disintegration», неопубликованная диссертация, 234. См. также P. Brown, «The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity, JRS, 1.Х1 (1971) 80-101, об особой роли святой личности.
[101] Ware, «Christian Theology», 192. См. также Danielou-Narrow, Centu-ries, 399.
[102] Alexander, Patriarsh, 215.
[103] См. 1. R. Taylor, Christians and the Holy Places, 295-331.
[104] L. Barnard, «The Theology of Images», в материале Iconaclasm, представ-ленном на девятом весеннем симпозиуме по исследованиям Византии, 1975, 1. См. также С. Cavarnos, Byzantine Thought And Art, 14.
[105] О догматическом развитии в период иконоборчества речь пойдет в главе II.
[106] Доиконоборческий термин для определения периода от эры раннего христианства до периода иконоборчества VIII — IX веков но P. X.
[107] A. Schmemann, The Historical Road of Eastern Orthodoxy, 184.
[108] Barnard, «Theology», 7. См. также А. В. Карташев, Вселенские соборы, 457, который считает, что иконоборческие движения в церкви были борьбой с почитанием икон. И. К. Языкова, Богословие иконы, 48-49, утверждает, что иконоборческое движение зародилось в интеллекту-альной элите — среди православных монахов и как следствие оязыч-нивания христианства с IV века по P. Х.
[109] Alexander, Patriatch, 9. См. также Е. Kitzinger, с<Тпе Cult of Images in the Age before Iconoclasm», DOP 8 (1954) 85; P.J.Alexander, «An Ascetic Sect of Iconoclasts in Seventh Century Armenia», Late Classical and Medieval Studies in Honor of Albert МаШиав Friend, Jr. {1955) 150-51. М. Hussey, Orthodox Church, 34.
[110] Ouspensky, Theology, Т.1, 36, утверждает, что иконоборчество сущес-твовало ровно столько же, сколько сам культ образов.
[111] Kitzinger, «Cult», 86.
[112] Ibid., 86.
[113] Finney, Invisible God, 17.
[114] Giakahs, Images, 27.
[115] Dickinson, View, 256. См. также Alexander, Patriarch, 23.
[116] Е. J. Martin, А History, 19.
[117] Barnard, «Theology», 7.
[118] Alexander, Patriarch, 26, 27, 30, подчеркивает, что символическое и аналогическое толкование религиозного искусства позднее использо-валось сторонниками почитания икон для защиты христианских образов. A. Armstrong, «Some Comments on the Development of the Theology of Images», SP, Т.9 (1966), 117-26.
[119] Ouspensky, Theology, 36-37, не принимает эти труды во внимание, исходя из того, что «церковь (в первую очередь православная) не считает их истинно православными», а также из того, что «труды этих авторов можно лишь признать как выражение их личных убеждений». Однако такое заявление нельзя признать убедительным; то же самое можно сказать об Иоанне Дамаскин«, который писал от имени арабов в Малой Азии и труды которого тоже можно воспри-нять как выражение лишь его взглядов, а не взглядов церкви в период иконоборчества.
[120] Barnard, «Theology», 7. См. также R, Grigg, «Aniconic Worship and the Apologetic Tradition: А Note on Canon 36 of the Council of Elvira», СН, 45 (1976) 428; Martin, A History, 18.
[121] Grigg, «Aniconic Worship», 432.
[122] Kitzlnger «Cult», 87.
[123] A.J. Dobroklonskii, S. Theodore, Confessor and Abbot of the Studiutn, Vol.113, 27.
[124] Несмотря на то, что некоторые исследователи оспаривают подлин-ность обоих трудов, эти труды носят иконоборческий характер, что отражается в неподдельной обеспокоенности относительно образов. См, дискуссии в Bernard, «Theology» 9, также S.Сего, «The True Image of Christ: Eusebius» Letter to Constantia Reconsidered», JTS, 32 (1981) 460-70.
[125] Kitzlnger «Cult», 91.
[126] См. Kitzlnger «Cult», 96-115, колдовство и обряды, сопровождающие культ образов.
[127] Kitzinger, «Cult», 86-90, указывает на правление Юстиниана (527— 565 гг. по Р.Х.) и последующие годы как на период, в который возникли иконы.
[128] Ibid., 121.
[129] В.М.Живов, Богословие иконы в период иконоборческих споров, в Резюме сообщений, Московский Государственный оргкомитет XVIII Международного конгресса византистов, II, L-Z, 1991, 1275.
[130] В. В. Болотов, Лекции по истории Древней церкви, T.4, 513-14.
[131] J. Pelikan, Imago, 7.
[132] См. J. Herrin, «The Context of Iconoclast Reform», 15-20, статья о6 историческом контексте и политических аспектах иконоборчества в материале Iconoclasm, представленном на Девятом весеннем симпо-зиуме по исследованиям Византии.
[133] Dobroklonskii, St. Theodore, 37-41, считает, что иконоборцы были разделены на три разные группы, приверженцы которых придержи-вались разных взглядов.
[134] A. Giakalis, Images of the Divine, 10-11.
[135] Martin, А History, 35-36, утверждает, что политика Льва повлияла на убеждения лишь отчасти — он закрыл и ликвидировал несколько школ, которые считались «цитаделью» идолопоклонства.
[136] Giakalis, Images, 8.
[137] Ibid., 10.
[138] Hussey, Orthodox Church, 42. See also S. Gero, «Bizantine Iconoclasm and Monachomachy», JEH, 28 3 (1977) 241-48, где представлен другой взгляд на роль монахов в иконоборчестве.
[139] Giakalis, Images, 11-12.
[140] Карташёв, Соборы, 483.
[141] Mango, «Introduction», 4.
[142] Alexander, Patriatch, 22.
[143] Карташёв, Соборы, 483-504.
[144] P. Brown, «A Dark-Age crisis: aspects of the Iconoclastic controversy», EHR, 88, (1973), 4, утверждает, что войска играли в иконоборчестве важную роль.
[145] Martin, A History, 108, отмечает, что это возрождение оказалось неэффективным. См. также Alexander, Patriarch, 21-22; Mango, «In-troduction», 5.
[146] J. Herrin, The Formation of Christendom, 467. См. также Martin, А History, 173.
[147] Ware, «Christian Theology», 194. См. также Herrin, Formation, 468.
[148] Mango, «Introduction», 6.
[149] Martin, А History, 210.
[150] Alexander, Patriarch, 223.
[151] См. J. Негпп, «Women And The faith In Icons In Early Christianity», в R.Samuel, G.S.Jones (eds.), Culture, Ideology, and Politics, 56-83; J. Hernn, «In Search of Byzantine Women: Three Avenues of Approach» в A. Cameron, A. Kuhrt (eds.), Images of Women in Antiquity, 167-85.
[152] Herrin, «Women», 68. См. также Herrin, «In Search», 169-70.
[153] N. Jachec, «Women and the faith in Icons», MA report, (1987), 11-27, отмечал, что культ икон был очень привлекателен в первую очередь для женщин в связи с тем, что они имели меньше возможностей лечения по сравнению с мужчинами и, как следствие их социального положения, они прибегали к помощи икон гораздо чаще, чем мужчины. См. также Herrin, «Women», 64; Herrin, «In Search», 172.
[154] Herrin, «Women», 72.
[155] Ibid., 71-73.
[156] Alexander, Patriarch, считает, что особенно в период с 780 по 787 г. по P.Х. «решающую роль играло множество случайностей и чисто человеческих факторов». F, Dvornik, «The Patriarch Photius and iconoclasm», 69-97, отмечал, что иконоборчество не прекратилось с провозглашением победы православия и что это был вопрос имперс-кой, а не церковной власти.
[157] И. Мейендорф, Византия и Московская Русь, 27.
[158] Ouspensky, Theology, 254.
[159] Schmemann, Historical Road, 38. См. также М.Zibawi, The Icon, 125.
[160] Schmemann, Road, 123, утверждает, что «для русской психологии в первую очередь был характерен этот ритуализм и некая гипертрофи-рованная, сугубо литургическая набожность».
[161] Ibid., 123. См. также Ware, The Orthodox Church, 88, утверждает, что христианство главным образом преобладало в городах, в то время как сельские районы оставались языческими.
[162] Мейендорф, Византия, 32, цитируя Флоровского, «Пути русского богословия», отмечает, что до XIX века на Руси не было ни одного богослова.
[163] Ware, The Orthodox Church, 86.
[164] Ouspensky, Theology, 257. Praxis — церковная практика, церковная жизнь.
[165] Х. Н. Billington, The Icon and The Axe, 9.
[166] Ibid., 254.
[167] G. Drobot, «Icons: Lines, Language, Colours, and History», in G. Limouris (ed.), Icons Windows on Eternity, 167.
[168] V. Ivanov, «Iconography and Icon», в G. Limouris (ed,), Icons Windows on Eternity, 152, отмечает, что «иконография превращалась в иконо-софию».
[169] Ouspensky, Theology, 254.
[170] I. Grabat; «Ancient Russian painting», in ARI, 3 (1929), 8.
[171] См. Zernov, Eastern Christendom, 293.
[172] Ouspensky, Theology, 288, 323, считает, что этот процесс начался в ХV веке, при Иване Ш (1462 — 1505).
[173] Ibid., 288.
[174] Schmemann, Historical Road, 168.
[175] Ouspensky, Theology , 262. См. также A. Preohrazhensky, The Russian Orthodox Church, 70-72.
[176] Preobrazhensky, Church, 74-75.
[177] Ibid., 262. См. также И. Дунаев, «Собирайте себе сокровища на небе», ПБ 4 (1994) 13.
[178] Ware, The Orthodox Church, 114-117.
[179] J. Gracraft, The Church Reform of Peter the Great, 130, 212.
[180] Ibid., 285, 291.
[181] Н.А. Wolhon, the Philosophy of the Church Fathers Faith, Trinity, Incarnation, 11.
[182] Shiel, Greek Thought, 22.
[183] Bediako, Theology & Identity, 30. См. также E. R. Dodds, Pagan And Christian in ап Age of Anxiety, 120.
[184] Shiel, Thought, 22.
[185] Ibid., 72.
[186] См. Shiel, Thought, 72. См. также A. Н, Armstrong, «Some Comments on the Development of the Theology of Images», SP, IX Ш (1966), 117-26.
[187] Bediako, Theology, 64-89, 100-26. См. также Н. В. Timothy, The Early Christian Apologists And Greek Philosophy, 40-58.
[188] Shiel, Thought, 55, считает, что с самого начала «смесь философии с христианством» породила в качестве «дьявольского плода» языческой философии гностицизм.
[189] Ibid., 89. См. также S.G. Hall, Doctrine And Practice In The Early Church, 50-51; С. Brown, Philosophy And The Christian Faith, 13-17.
[190] J. Breck, «Divine Initiative: Salvation in Orthodox Theology», в Orthodox-Lutheran Dialogue, 108.
[191] С. Е. Gunton, Christ and Creation, 19.
[192] А.Н.Armstrong, «Introductory», в A.Н.Armstrong, The Cambridge History of Later Greek and Early MedievaI Philosophy, 9.
[193] Gunton, Christ, 19.
[194] См. Armstrong, «Introductory», 8-9. См. также Н. Chadwick, «Philo and the Beginnings of Christian Thought», 145-4б, в Armstrong, Camb-ridge History, 145-4б.
[195] Sahas, 1соп, 8.
[196] Armstrong, « Introductory», 9.
[197] Sahas, Icon, 9.
[198] Ibid., 9.
[199] См. Ware, Church, 77, 224-25.
[200] Giakalis, Images, 66. См. также W. Grudem, Systematic Theology, 272.
[201] de Vyver, The Artistic Unity of the Russian Orthodox Church, 17. См. также Glakalls, Images, 78.
[202] D. J. Sahas, Icon and Logos Sources in Eight-Century Iconoclostn, 7.
[203] St. John of Damascus, On the Divine Images, 8.
[204] Ibid., 8.
[205] E. L. Mascal1, Theology and Images, 43.
[206] Sahas, Icori, 7.
[207] Ware, Church, 42, 239.
[208] Ibid., 42.
[209] V. Lossky, Iп the Image and Likeness of God, 103.
[210] J. Meyendorff, Byzаntine Theology , 134.
[211] Gunton, Chrtst, 33.
[212] Giakaiis, Images, 74, 78. Однако он признает, что видение и слышание важны в одинаковой степени, См. примечания в Images, 81.
[213] Pelikan, Images, 99.
[214] Dragas, «St John Damascene's Teaching», 58.
[215] Giakalis, Itnages, 79.
[216] Ware, «Christian Theology», в Cunliffe-Jones, А History, 197.
[217] I. P. Sheldon-Williams, «The Greek Christian Platonist Tradition from the Cappadocians to Maximus and Eriugena», в Armstrong, Cambridge History, 428.
[218] Sheldon-Williams, « Tradition», 427. См. также J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrine, 22. Относительно представления Плотина о воз-несении см. В. Russell, History of Western Philosophy, 294.
[219] Dodds, Pagan, 87.
[220] Barnanl, «Theology», 11. См. также Р.E. Rorem, «Iamblichus and the Anagogical Method in Pseudo-Dionysian Liturgical Theology», SР, 17 (1982) 453-56.
[221] Rorem, «Iamblichus», 454.
[222] Barnard, «Theology», 11.
[223] Ibid., 12.
[224] Ibid., 12.
[225] G. Limouris, «The Microcosm and Macrocosm of the Icon: Theology, Spirituality and Worship in Colour», в G. Limourls, Icons Windows on Eternity, 106-7, считает, что икона обладает священным статусом, благодаря таинству церкви, которая поистине священна. Однако, остается неясным, что именно заставляет воспринимать икону в качестве священного объекта.
[226] Limouris, «The Microcosm», 113-14.
[227] Ibid., 106-7.
[228] Ibid., 107.
[229] Ibid., 107.
[230] E. L. Mascal1, Theology and Images, 43.
[231] Цит. по Mascal1, Theology, 43.
[232] Meyendorff, Christ In Eastern Christian Thought, 190, придерживается того мнения, что иконы играют лишь «квазисакраментальную роль».
[233] См. Приложение А. См. также Zibawi, Icon, 89, утверждает, что «отцы церкви первых столетий выступали за педагогическую роль искусства, не приписывая образу священных качеств».
[234] См. J. Meyendorff, Study of Gregory Palamas, 160, считает, что Палама указывал на сотериологическую важность крещения и евхаристии. См. также Mascal1, Theology, 43-44.
[235] Ware, «Theology», 200.
[236] В устной беседе с автором епископ православной церкви Timothy Ware подтвердил, что в современной Греции до сих пор распростра-нено суеверие в отношении икон, которое иногда доходит до идоло-поклонства. Оксфорд, 1996.
[237] См. выше раздел 1.3.2., «Греческая религия».
[238] Mascal1, Theology, 43.
[239] Ibid. 42-44.
[240] Ware, Church, 77.
[241] Под терминами икономия и теология здесь подразумеваются: спасе-ние в контексте взаимоотношений Бог — человек, а последнее содержит в себе догматическое понимание Троицы и их взаимоотно-шение.
[242] G. A. Keith, «Our Knowledge of God: The Relevance of the Debate Between Eunomius and the Cappadocians», TB, 41.1 (1990) 77.
[243] С. М. LaCugna, GOD FOR US, 59.
[244] Ibid. 59.
[245] Ibid. 59.
[246] J. D. Zizioulas, Being As Communion, 90.
[247] Ibid. 90.
[248] R. P. C. Hanson, The search for the Cristian Doctrine of God, 677.
[249] Ibid., 707.
[250] Ware, The Orthodox Way, 22.
[251] Keith, «Knowledge», 78.
[252] Hanson, Search, 720.
[253] Ibid., 720.
[254] Ibid., 720.
[255] Утверждение о некоем мистическом союзе в учении Григория Нис-ского схоже с философской мистической концепцией о вознесении души в неоплатонизме. См. Kelly, Doctrines, 21-22.
[256] Название «исихаст» происходит от греческого слова hesychia, озна-чающего «спокойный». Исихастское движение делало ударение на молчании как на средстве' вхождения в мистический союз с Богом через молчаливую молитву, внутренние размышления и физические упражнения как средства, помогающие сосредоточиться. См. Ware, Church, 72-78
[257] Joost van Rossum, «Тье logoi of Creation and the Divine «energies» in Maximus the Confessor and Gregory Palamas», в Е. A. Livingstone (ed.), SP ХХVII (1993) 215.
[258] «Деификация», или theosis, — это православный термин, используе-мый для определения процесса обожествления людей. Эта концепция схожа по своему значению с протестантским термином «освящение».
[259] J. Meyendorff (ed.), Gregory Palamas, The Triads, 607, цит. по Р. Neg-rut, The Development of the Concept of Authority within the Romanian Orthodox Church during the Twentieth Century, неопубликованная диссертация, 23. О других определениях энергии и сущности см. Ca-varnos, Thought, 51.
[260] Православные богословы определяют несотворенную энергию, дан-ную человеку, как благодать. См. Ware, Church, 78. Giakalis, Images, 125, делает непонятное разделение между различными степенями энер-гии, которая передается через благодать несотворенным существам или материи (например, иконе) и сотворенным существам (человеку). Остается неясным, на чем базируются такие разделения и насколько они законны с богословской точки зрения.
[261] G. I. Mantzarides, The Deification of Man, 104.
[262] Negrut, Development, 23.
[263] Ibid., 23.
[264] V. Lossky, Mystical Teology, 70.
[265] Ibid., 95.
[266] Lossky, Teology, 86.
[267] Negrut, Development, 23, T. Ware, «Salvation and Theosis in Orthodox Theology», в Luter Et Reform Allemande Dans Une Perspective Oecumenique, 3 (1983) 177, однако, утверждает, что разделение православными понятий энергии и сущности не подрывает учения о божественном единстве – «Беспокойство западных богословов по этому вопросу связано с непониманием позиции Паламы».
[268] La Cugna, God, 189.
[269] Ibid., 192.
[270] Ibid., 188-92.
[271] Ibid., 196.
[272] Negrut, Development, 24.
[273] See Е. Timiadis, «God's Immutability and Communicability», в Т. F. Torrance (ed.), Theological Dialogue Between Orthodox And Reformed Churches, 46.
[274] Negrut, Development, 24.См. также D. Wendebourg, «From the Cap-padocian Fathers to Gregory Palamas», 196, в E.A.Livingstone (ed.), SP, XVII 4 (1982), считает, что функция несотворенных энергий в том виде, как их представляет Палама, не оставляет никакой сотери-ологической роли для Личностей Троицы.
[275] Ibid., 23.
[276] Giakalis, Images, 79.
[277] Ibid., 125.
[278] Этот момент, если довести его до логического конца, может привести к пантеизму.
[279] Однако Giakalis, Images, 125, не разъясняет, какие именно творения участвуют или не участвуют в труде этих энергий, а также что является критерием для такого предположения.
[280] Ibid., 125.
[281] Об этом мы будем говорить в главе III.
[282] Negrut, Development, 154.
[283] Giakalis, Images, 74-75.
[284] Ibid., 125.
[285] Negrut, Development, 155.
[286] Giakalis, Images, 87.
[287] Ware, Teology, 200.
[288] Ouspensky, Teology, 125.
[289] См. цитату Феодора Студита в Ouspensky, Theology, 125, См. также St Theodore the Studite, 0n The Holy Icons, 22-23.
[290] Ouspeusky, Theology, 127. См. также Ware, «Theology», 198.
[291] Ware, «Theology», 196-97, отмечал, что икона в церкви относится к художественному виду икон, который отличается от прототипа в оузии.
[292] Эта концепция происходит от Дионисия Ареопагита, представителя неоплатонической школы, а также от св. Василия. См. St. Theodore, Icons, 48.
[293] Ware, «Theology», 192.
[294] Ouspeusky, Theology, 128, См. также св. Василия Великого по цитате в St. John Damascus, On the Diving Images, 36.
[295] Lossky, Mystical Teology, 189.
[296] J. Meyendorff, Bizantine Theology, 50.
[297] Ouspeusky, Theology, 140-162.
[298] Ibid., 130.
[299] G. Limouris, «The Microcosm», 122.
[300] Ouspensky, Theology, 140. Meyendorff, Theology, 47-4В. Giakalis, Ima-ges, 126-27. Ware, «Theology», 198. Limouris, «The Microcosm», 105.
[301] См. св. Василия, цит. по St. Theodore the Studite, Icons, 49.
[302] Т. F. Mathews, The Clash of Gods, 11.
[303] Dodds, Pagan, 74-75. См. также, Andre-Jean Festugiere, Personal Religion Among the Greeks, 105.
[304] Ware, Church, 236-38. См. также J. Breck, «Divine Initiative: Salvation in Orthodox Theology», в J. Meyendorff, R. Tobias (eds.), Salvation in Christ, 118-120.
[305] M.Aghiorgoussis, «Orthodox Soteriology», в J. Meyendorff, R. Tobias (eds.), Salvation in Christ, 38.
[306] See Lossky, The Vision, 42.
[307] N Aghiorgoussis, «Sin in Orthodox Dogmatics», SV TQ, 21 4 (1977) 180.
[308] Ibid., 180.
[309] Aghiorgoussis, «Soteriology», 37.
[310] Ibid., 37.
[311] Очевидно, что среди отцов церкви и православных богословов нет согласия по поводу определения понятия «образ Божий в человеке». В то же время существует множество определений как тела, так и души. См. Lossky, Theology, 115-116.
[312] Breck, «Initiative», 109.
[313] Lossky, Theology, 120.
[314] Aghiorgoussis, «Soteriology», 38.
[315] Aghiorgoussis, «Sin», 182.
[316] Ibid., 183.
[317] Zizioulas, Communion, 102
[318] Aghiorgoussis, «Sin», 183.
[319] Ibid., 183. См. также Breck, «Initiative», 111.
[320] Ware, «The Understanding», 116.
[321] Ware, «The Understanding of Salvation in the Orthodox Tradition», в R. Lanooy (ed.), FOR US AND OUR SALVATION, 117.
[322] Breck, «Initiative», 112.
[323] Aghiorgoussis, «Soteriology», 42.
[324] Lossky, Theology, 136.
[325] Ouspensky, Theology, 157.
[326] Breck, «Initiative», 113.
[327] Aghiorgoussis, «Soteriology», 41. См. также Lossky, Vision, 42.
[328] LimourIs, «Microcosm», 100. См. также Ware, Church, 237.
[329] See J. Meyendorff, The Byzantine Legacy in the Orthodox Church, 184.
[330] Ware, Church, 237. См. также Hans Urs Von Balthasar, Presence and Thought, 165.
[331] Ibid., 101.
[332] Ware, Church, 236; Lossky, Image, 110; Zibawi, The Icon, 28, однако, считает, что обожествления можно достичь в нынешнем веке, благо-даря воплощению Христа.
[333] Ibid., 238.
[334] С. N. Tsirpanlis, Introduction to Eastern Patristic Thought and Orthodox Theology, 68.
[335] Ware, Church, (footnotes) 238.
[336] Ouspensky, Theology, 162, 189.
[337] Ware, Church, 29, 42; Giakalis, Images, 74-78; J.Baggley, Doors of Perception, 89; М. Е. Kenna, «Icons in Theory and Practice; An Orthodox Christian Example», HR„24 (1984) 348.
[338] Hanson, Search, 450, отмечает, что учение Афанасия о перевоплоще-нии «практически упраздняет учение об искуплении». Похоже, что некоторые православные богословы «унаследовали» усиленное вни-мание Афанасия к учению о перевоплощении, при этом умалив учение об искуплении и Христовой жертве.)
[339] J. Ellul, The Humiliation of the Word, 242.
[340] Ibid, 81-83, 104.
[341] Е. Castro and G.Limouris, «The Ecumenical Significance of Icons», в G., Limouris, Icons Windows on Eternity, 8.
[342] G. Bray, «Justification And The Eastern Orthodox Churches», в J. I. Pac-ker (ed.), Here We Stand, 118.
[343] Ouspensky, Theology, 140, ясно говорит, что иконы воспринимаются как «посредники между изображенными на них личностями и искрен-не молящимися людьми». Такое учение, судя по всему, подрывает труд Христа и Святого Духа.
[344] A.A. Hoekema, Created in God's Image, 91-96, указывает на деификацию (если пользоваться православной терминологией) человеческого тела только в будущем прославлении Христа.
[345] Sее Ellul, Humiliation, 242.
[346] St. Iohn of Damascus, On the Divine Images, 53. См. также L. Ouspen-sky, «The Meaning and Content of the Icon», в D. В. Clendenin (ed.), Eastern Orthodox Theology, 47.
[347] Giakalis, Images, 60.
[348] G. В. Ladner, «The Concept of the Image in the Greek Fathers and the Byzantine Iconoclastic Controversy», DOP 7 (1953) 5-6.
[349] Sее «Phaedrus» 250B, в Е.Hamilton, Н.Cairns (eds.), The Collected Dialogues of Plato, 496-97.
[350] Ladner, «Concept», 6.
[351] Hamilton, Plato, 823.
[352] Ladner, «Concept», 6. См. также, «Timaeus» 29В, в Hamilton, Plato, 1162.
[353] Этот положительный взгляд на образы содержится в поздних диалогах Платона. См. Hamilton, «Timaeus», 29b, 1162; «Laws», 669 A-В, 1265-66.
[354] Ladner, «Concept», 7, утверждает, что хотя Платон и пользуется искусством и образами в человеческих усилиях постичь познаваемый мир, такое использование по-прежнему рассматривается неадекват-ным в достижении интеллектуального (божественного) мира и тре-бует только духовного подхода, при котором «все образы нужно оставить».
[355] Ibid., 7. См. также L. Goppelt, TYPOS, 51.
[356] Ibid,, 7. См. также Bediako, Theology, 30.
[357] Н.А. Wolfson, Philo, Vol. 1, 238.
[358] Ibid,, 238.
[359] Ibid,, 238.
[360] Ladner, «Concept», 7. См. также Wolfson, Philo, 238.
[361] См. Wolfson, Philosophy, 255-86, где речь идет о дискуссии об идеях Филона, касающихся Логоса и Образа Божия и Его воздействия на отцов церкви.
[362] Ladner, «Concept», 7-8, однако, отмечает, что концепция св. Павла о Христе как об Образе Божием вытекает «из его развития повество-вания Бытия о сотворении человека», а не из размышлений Филона, и что учение Павла о Христе как об Образе Божием должно быть руководящим принципом размышления христианина об образах.
[363] Ladner, «Concept», 8.
[364] См. Ladner, «Concept», 8. См. также Giakalis, цит. св. Василия в Images, 105.
[365] Lossky, Image, 133.
[366] Ibid. 134.
[367] Ibid. 135.
[368] Ladner, «Concept», 3.
[369] О полной экзегетике отрывков Писания, имеющих отношение к концепции образа и богословия икон в целом, речь пойдет в главе III.
[370] Ibid. 10.
[371] Мефодий, цитируемый по Ladner, «Concept», 10.
[372] Ladner, «Concept», 11, отмечает, что начиная с третьего столетия этот подход, который был виден в учениях Филона, Клементия, Оригена и Афанасия, стал доминировать в толкованиях отцов церкви образа Божия в человеке.
[373] См. определения этих концепций в подразделе «Creation and Deifica-tion», 42. Balthasar, Presence, 117-18, отмечал, что св. Григорий Нис-ский не признавал разницы между «образом» и «подобием». Согласно его размышлениям, образ имеет не просто какое-то онтологическое созначение и подобие, имеющее функциональное значение, но явля-ется в такой же степени динамическим, в какой подобие является онтологическим.
[374] Balthasar, Presence, 112. См. также Ladner, «Concept», 12; J. Shiel, Greek Thought and the Rise of Christianity, 85, утверждает, что вопрос сходства и подражания был смоделирован христианскими богослова-ми после труда Платона «Форма хорошего».
[375] Ladner, «Concept», 8-9, 12-13, отмечает, что эти концепции Плотина пришли к св, Иоанну Дамаскину и св. Феодору Студиту, защитникам православия в процессе иконоборческих споров, через Псевдо-Дио-нисия Ареопагита, который широко пользовался метафизикой Про-кла и Плотина.
[376] Sheldon-Williams, «The Philosophy of Icons», 506 в Armstrong, The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy.
[377] Ibid. 507.
[378] Ibid. 507.
[379] Sheldon-Williams, «Philosophy», 507, отмечает, что эти три режима существования относятся к платонизму и были восприняты Псевдо-Дионисием, который оказал заметное влияние на защитников икон.
[380] J. Pelikan, The Spirit of Eastern Christendom (600-1700), 119.
[381] Ladner, «Concept», 16, считает, что это различие не было ясно определено, и в результате этого некоторые иконофилы (защитники икон) идентифицировали образ Христа (икону) с Его божественной ипостасью — «зто было чрезмерно "громкое" и опасное заявление».
[382] Giakalis, Images, 96.
[383] Ouspensky, Theology, 128.
[384] Pelikan, Spirit, 119.
[385] Sheldon-Williams, «Philosophy», 509.
[386] Ibid., 512.
[387] Ibid., 512.
[388] Ibid., 512. См. также Alexander, Patriarch, 202; St. Theodore, Icons, 28.
[389] Sheldon-Williams, «Philosophy», 512. См. также Alexander, Patriarch, 202.
[390] Alexander, Patriarch, 202.
[391] Ibid., 202. См. также «Categories», 7, 7b15-8а6, Vol.1, в J. Barnes, (ed.), The Complete Works of Aristotle.
[392] Alexander, Patriarch, 204-5.
[393] Giakalis, Images, 112.
[394] Pelikan, Spirit, 119.
[395] Ibid., 133-34.
[396] Sheldon-Williams, «Philosophy», 515.
[397] Ibid., 515. См. также Pelikan, Spirit, 104, утверждает, что «доктриналь-ная традиция к атому времени была в значительной степени двусмыс-ленной и не вела к исчерпывающим результатам».
[398] Giakalis, Images, 112.
[399] Zibawi, Icon, 11.
[400] Представление св. Феодора о реальном присутствии в иконе откры-вает путь к идолопоклонству. Icons, ЗЗ, 36.
[401] Термин episteme обозначает богословское восприятие теории и кон-цепции.
[402] Традиция понимается прежде всего как само Евангелие. См. Р. С. Rodger and L. Vischer (ed.), The Fourth World Conference On Faith And Order, 50.
[403] Т. F. Torrance, «The Trinitarian Foundation and Character of Faith and of Authority in Church», в Т.F. Torrance (ed.), Theological Dialogue Between Orthodox and Reformed Churches, Vol.1, 92. См. также Mey-endorff, Church, 192.
[404] Torrance, «Foundation», 102. Negrut, Development, 95, однако, отме-чает, что, в то время как задача церкви состоит в том, чтобы хранить эти два уровня в равновесии, постепенно в процессе кристаллизации богословия от «Залога веры» отпали определенные аспекты, которые организовали некую систему самостоятельной истины.
[405] Florovsky, Bible, Church, Tradition, 84.
[406] R. Bauckham, «Tradition in Relation to Scripture and Reason», в R. Ba-uckham, В. Drewery (eds.), Scripture Tradition And Reason, 120.
[407] J. A. McGuckin, «Theology of Images and the Legitimitation of Power в Eighth Century Byzantium», SVTQ., 37 1 (1993) 52.
[408] См. Hanson, Tradition, 22-35, по вопросам тайной традиции, которую он считает главным образом гностической, но не считает учением отцов о христианстве. См. также A.С. Thiselton, New Horizons in Hermeneutics, 146.
[409] Negrut, Development, 115.
[410] A. N. S. Lane, «Scripture, Tradition and Church: An Historical Survey», VE, 39, отмечает, что такого взгляда придерживались Иреней и Тертуллиан. См. также Е.FIesseman — Van Lеег, Tradition And Scripture in the Early Church, 140-44.
[411] R.P.С.Hanson, «The Church And Tradition In The Pre-Nicene Fat-hers», в SJT, 12 (1959) 23, считает, что не следует строить далеко идущие заключения на утверждении св. Василия о неписаном предании, поскольку они неизбежно страдают от неопределенности, а это... в свою очередь неизбежно отражается на устном предании.
[412] Pelikan, Imago, 65.
[413] Lane, «Scripture», 41.
[414] Ibid., 41.
[415] C. N. Tsirpanhs, Introduction to Eastern Patristic Thought and Orthodox Theology, 98, цитируя св. Иоанна Дамаскина, утверждает, что экуме-нические соборы были непогрешимы.
[416] Ibid., 52.
[417] Lane, «Scripture», 39. См. Hanson, Ttadition, 35-50, где можно найти примеры «падших традиций». См. также R. N. Grant, «The Appeal to the Early Fathers», JTS, 10-11 (1959-60) 13-24, где можно прочитать о комплексности традиций в отношении богословия ранних отцов.
[418] Lane, «Scripture», 38.
[419] Ibid., 38.
[420] С этим можно согласиться лишь в том случае, если проигнорировать активное использование Ветхого Завета, а ранняя церковь им поль-зовалась. Утверждение православия о том, что церковь предшествует Писанию, может быть правильным лишь отчасти, в том смысле, что Новый Завет появился после того, как зародилась церковь. См. Kelly, Doctrines, 29-52.
[421] E. Clapsis, «Prolegomena to Orthodox Dogmatics: Bible and Tradition», Diakonia, 18. См. также T. Hopko, All The Fulness of God, 50; N. Wiles, The Making of Christian Doctrine, 45; Lane, «Scripture», 38, однако, отмечает, что с самого своего появления Новый Завет отличался от традиции.
[422] Lossky, «Tradition and Traditions», в L.Ouspensky, V.Lossky (eds.), The Meапing of Icons, 12.
[423] Negrut, Development, 49, отмечает, что среди православных богосло-вов нет единого мнения относительно места Писания среди других традиций церкви.
[424] N. Santer, «Scripture and the Councils», в Sobornost, 7 2 (1975) 99-110.
[425] Negrut, Development, 113.
[426] Sauter, «Scripture», 99-100.
[427] Negrut, Development, 61-62.
[428] Московское заявление, сделанное совместной доктринальной комис-сией англиканской и православной церквей в 1976 г., подразумевает более осторожный подход к отношениям между Писанием и тради-цией. «Мы подтверждаем, что Писание является главным критерием, тогда как церковь проверяет традиции, чтобы определить, являются ли они частью Священной традиции или нет». См. К. Ware, С. Davey (eds.), Anglican-Orthodox Dialogue, 84.
[429] Negrut, Development, 62-63, однако, утверждает, что в Румынской православной церкви были некоторые попытки подвергнуть такой взгляд сомнениям, но они были подавлены.
[430] Grant, «Appeal», 23, отмечает, что начиная с V века по Р.Х. стали появляться подделки.
[431] Ware, «Theology», 184.
[432] Ibid., 184.
[433] Pelikan, The Spirit, 99.
[434] Ibid., 99. Однако такое учение открыло путь для последующей спеку-ляции, когда всякую церковную традицию, если ей не хватало под-держки на основе Библии, можно было добавить и оправдать на основе существования неписаной традиции.
[435] Ouspensky, Theology, 53, отмечает, что выражение «нерукотворный образ» надо рассматривать в свете Мк. 14:38. Однако очевидно, что такое понимание этого стиха является результатом неправильной экзегетики и выбирания слов из контекста.
[436] French, Orthodox Church, 134.
[437] Martin, А History, 21. См. также Е. Bevan, «Idolatry», ЕR, 66 1 (1926) 269. См. также выше раздел 1.3.1. «Греческая религия».
[438] Pelikan, Spirit, 102, считает, что эта история об образе была приду-мана позже и не является истинным повествованием.
[439] Эту легенду объясняют по-разному. Х. Herrin, Formation, 315, считает, что это было полотнище, на котором Христос оставил Свой лик.
[440] См. Ouspensky, Theology, 136.
[441] Ware, Church, 205.
[442] Pelikan, The Vindication of Tradition, 77-78, считает, что имел место некий методологический сдвиг от каппадокийских отцов к универ-сальным принципам христианизированного неоплатонизма. Одним из таких принципов было отношение между особенностями чувствен-ного восприятия и универсальными формами. См. также Shiel, Greek Thought, 85. Е. Kitzinger, «Cult», 120, 137-40.
[443] Hanson, «Church», 30.
[444] See Ouspensky, Theology, 136-37.
[445] Giakalis, Images, 33-34, допускает, что традиция икон является более поздней «надстройкой», которая берет свое начало в традиции отцов церкви.
[446] Kelly, Doctnnes, 491.
[447] Ibid., 491.
[448] Н. Graef, Маrу A History of Doctrine and Devotion, 33, отмечает, что о ней нигде не упоминается в таких известных письменных трудах, как Письмо Клемента Римского к Коринфянам, или в Дидахе, так называемом Учении двенадцати апостолов, или в Послании Варнавы.
[449] Ibid., 35.
[450] Negrut, Development, 121. Негрут считает, что в до-никейский период произошло два важных события: возникновение культа Марии в церкви в том виде, как об этом можно судить по апокрифам, а также развитие одухотворенной герменевтики.
[451] Цит. по Negrut's, Development, 123.
[452] Языкова, Богословие, 89, утверждает, что события, о которых не записано в евангелиях, вошли в традицию иконографии через апок-рифические источники, историчность которых весьма сомнительна.
[453] Pelilcan, Spirit, 140.
[454] Graef, Mary, 36.
[455] Pelikan, Spirit, 139.
[456] См. V.Limberis, Divine Heiress, 49-60, где идет речь о роли культа Девы Марии и значении Ефесского собора
[457] См. J. Raja, Theotokos, 5.
[458] Pelikan, The Emergence of the Catholic Tradition (100-600), 241-42. См. также Raja, Theotokos, 125.
[459] Meyendorff, Unity, 75.
[460] Kelly, Doctnnes, 498.
[461] Herrin, «In Search», 182.
[462] A. M. Coniaris, Introducing the Orthodox Church, 100. См. также Ware, Church, 117.
[463] G. W, Н. Lampe, «Christian Theology in the Patristic Period», в Н. Cun-liffe-Jones, В.Drewery (eds.), А History of Christian Doctrine, 128.
[464] Coniaris, Church, 100.
[465] Ibid., 101.
[466] Bulgakov, Church, 118.
[467] Coniaris, Church, 101.
[468] Ibid., 100. См. также Ware, Church, 261-62.
[469] J. McHugh, «Оп True Devotion to the blessed Virgin Магу», The Way, 71.
[470] Raja, Theotokos, 124.
[471] См., например, W.A. Jurgens, The Faith of the Early Fathers, vol. 3, 350.
[472] Pelikan, Spirit, 140.
[473] Ibid., 140.
[474] J. McHugh, «Devotion», 73.
[475] N. Nissiotis, «Mary in Orthodox Theology», Concilium, 168 (1983) 25.
[476] Bulgakov, Church, 118.
[477] См. Языкова, Богословие 92.
[478] Языкова, Богословие, 92. См. также Graef, Mary, 33.
[479] Ouspensky, Theology, 60-62.
[480] Ibid., 62.
[481] Meyendorff, Unity, 79.
[482] Cameron, «Continuity», 18-24.
[483] Pelikan, Imago, 139.
[484] Ibid., 140.
[485] Herrin, «Women», 64.
[486] Ibid., 64.
[487] См. выше раздел 1.5.3, «Роль женщин в иконоборческом движении».
[488] Такие православные богословы как Zernov, Christendom, 232-35; Mey-endorff, Unity, 90-94; Ware, Church, 258-61, говоря о культе святых, вообще не ссылаются на Писание. Булгаков, Church, 119-28, ссыла-ется лишь косвенно.
[489] См. Negrut, Development, 125-28. Хотя J. Е. Taylor, Christians and the Holy Р1aces, 321, указывает на материальные свидетельства в пользу поклонения христиан захоронению с останками Петра в Риме начи-ная с конца II века по Р.Х., об истинности и достоверности такой практики говорить, пожалуй, сложно. См. H. Chadwick, «St. Peter and St. Paul in Rome: The Problem of the Memoria Apostolorum Ad Catacumbas», JTS, 8-9 (1957-58) 31-52.
[490] См. также выше раздел 1.3.1. «Греческая религия».
[491] Р. Brown, The Cult of Saints, 5.
[492] См. Burkett, Religion, 207.
[493] См. Р. Brown, A Dark-Age crisis: aspects of the Iconoclastic controver-sy», EHR, 88 (1973) 17. См. также Е. Kitzinger, «Cult», 119; Kitzinger, Art, 105.
[494] Brown, Cult, 51.
[495] Ibid., 51.
[496] Ibid., 51-53.
[497] H. Chadwick, The Early Church, 283, отмечает, что «в сознании людейсвятые стали играть роль, которую поначалу играли местные герои и божества».
[498] Ibid., 27.
[499] См. Kitzinger, «Cult», 117.
[500] Ibid., 27, 32.
[501] Pelikan, Spirit, 141.
[502] J. Е. Taylor, Christians and the Holy Р1aces,308.
[503] Brown, Cult, 8-9.
[504] Taylor, Christians, 316. См. Также R. J. Boggis, Praying for the Dead, 45.
[505] Meyendorff, Unity, 94, указывает на невозможность установления истинности реликвий и историческую недостоверность многих аги-ографических легенд.
[506] См. R. J. Boggis, Praying for the Dead, 41.
[507] W. Niesel, Reformed Symbolic, 162.
[508] См. Niesel, Symbolic, 162.
[509] Bulgakov, Church, 119.
[510] Ibid., 119.
[511] Ibid., 121.
[512] Bulgakov, Church, 120-21, очевидно, противоречит сам себе;.когда сначала говорит, что молитва должны быть обращена к Богу с помощью святых. Однако позднее (стр.123) он утверждает, что молитва должна быть обращена к святым. Cм, также Т. Ware, Church, 260.
[513] Ibid., 122.
[514] См. критику Negrut в адрес Ware. Negrut, Development, 136-37 .
[515] Pelikan, Spirit, 141.
[516] Pelikan, Imago, 150.
[517] Ware, Church, 261.
[518] Giakalis, Images, 127.
[519] См. критику выше, на стр. 36.
[520] S. Bu1gakov, «The Virgin and the Saints in Orthodoxy», в D. В., Clendenin-nin (ed.), Eastern Orthodox Theology, 71, отмечает, что суеверие и недостаток религиозного обучения на практике могут привести че-ловека к политеизму и синкретизму, «где язычество мирно сосущес-твует с христианством».
[521] См. Языкова, Богословие, 56-51.
[522] Ware, «Theology», 196, однако, отмечает, что «вопрос об идолопок-лонстве в иконоборческих спорах не стоял вообще».
[523] См. Martin, Historit, 130, где говорится о поддержке иконоборцев со стороны Писания. См. также L. Barnard, «Theology», 10.
[524] Об экзегетике и герменевтике речь пойдет в следующей главе.
[525] См. A. Н. Armstrong, «Some Comments on the Development of the Theology of Images», SP, IX (1966) 118-19. См. также Р. Alexander, Patriarch, 26, 33, который отмечает, что иногда, в период между III и VII веками по P. X., христиане прибегали к чисто языческой аргументации.
[526] Martin, History, 115.
[527] М. V. Anastos, «The Argument for Iconoclasm», в N. V. Anastos (ed.), Stadies in Byzantine Intellectua1 History, 153.
[528] Wаге, «Theology», 197.
[529] Ibid., 125.
[530] См. LaCugna, God, 192-197, где говорится о критике разрыва между theologia и oikonomia.
[531] См. Р. Henry, «What was the Iconoclastic Controversy About?», СН, 45 (1976) 22-23.
[532] Ibid., 23.
[533] Ibid., 123.
[534] Martln, History, 120, отмечает, что св. Иоанн Дамаскин находился под влиянием учения Дионисия Ареопагита. Теория Иоанна относитель-но образов «тесно связана с символизмом небесной и церковной иерархии, в котором Дионисий воспроизвел неоплатоническую связь между Богом и человеком».
[535] Ibid., 119.
[536] Ibid., 144.
[537] Henry, Controversy», 26-27.
[538] See L. Barnard, «Theology», 10.
[539] Martin, History, 187.
[540] Ibid., 185. См, также L. Barnard, «Theology», 12, отмечает, что прак-тика магии и суеверия охватила образы, особенно в период до иконоборческих споров, и что многое в этой практике было не более, чем возрожденный анимизм»,
[541] Ibid., 190.
[542] Giakalis, Images, 28.
[543] Pelikan, Spirit, 93-94.
[544] Martin, History, 133, однако, отмечает, что «иконоборцы обладают определенным превосходством в интеллигентном и честном обраще-нии с авторитетами».
[545] Pelikan, Spirit, 94.
[546] Barnard, «Theology», 12.
[547] Negrut, Development, 148.
[548] Ibid., 148.
[549] Ibid., 148.
[550] Ibid., 148.
[551] Ibid., 150.
[552] С. Mango, The Art of the Byzantine Empire 312-1453, 150, отмечает, что относительно традиции церкви иконоборцы «были ближе к исторической истине, чем их оппоненты, подтверждая, что первые христи-ане выступали против изобразительного искусства».
[553] McGuckin, «Theology», 44.
[554] Pelikan, Spirit, 95, отмечает, похоже, что обе стороны иконоборческих споров придерживались одной позиции относительно связи между Ветхим и Новым Заветами.
[555] Ouspensky, Theology, 42. См. также Ware, «Theology», 197.
[556] St. John, Images, 18. См. также Т. D. Speegle, The Life and Theology of Images of Saint John of Damascus, 54, неопубликованный тезис, The University of Arlington, 1987; Zibawi, Icon, 26.
[557] McGuckin, «Theology», 51.
[558] John of Damascus, Images, 16, использует отрывки из Писания, при этом не беря во внимание контекст каждого в отдельности взятого текста в качестве доказательства правоты своего заключения.
[559] См. St. Theodore, Icons, 24.
[560] Ibid., 64.
[561] D.L.Baker, Тшо Testaments, 0ne Bible, 20.
[562] Baker, Testaments, 20.
[563] Dodd, цит. по Baker, Testaments, 235.
[564] J. Goldingay, Approaches to Old Testament Interpretation, 34.
[565] Baker, Testaments, 26.
[566] Ibid., 237.
[567] Dodd, цит. по Baker, Testaments, 238.
[568] Goldingey, Approaches, 16. См. также G.F.Hasel, Old Testament Theology, 117.
[569] Goldingey, Approaches, 32.
[570] С.J. Н. Wright, Living as the people of God, 22. См. также N. Burrows, «Old Testament Ethics and the Ethics of Jesus», в L. Crenshaw, J. Т. Wil-lis (eds.), Essays in Old Testament Ethics, 231.
[571] Goldingey, Approaches, 44. См. также W. Lillie, Studies in New Testa-ment Ethics, 9.
[572] Wright, People, 23. См. также J. W. C. Kaiser, Toward Old Testament Ethics, 77.
[573] Ibid., 143.
[574] Ibid., 160.
[575] Baker, Testaments, 161.
[576] Ibid., 161.
[577] Ibid., 61.
[578] Goldingey, Approaches, 48. См. также Lillie, Studies, 71-72.
[579] Burrows, « Ethics», 232.
[580] C. A. A. Scott, New Testament Ethics, 21.
[581] Wright, People, 43.
[582] С. J. Н. Wright, Walking In The Ways of the Lord, 167.
[583] Ibid., 160.
[584] Baker, Testaments, 245.
[585] См. Ouspensky, Theology, 41-44.
[586] McGuckin, Theology, 51. См. также J.R.Payton, «Calvin and the Legitimation of Icons: His Treatment of the Seventh Ecumenical Council», ARH, 84 (1993) 223.
[587] St. John of Damascus, Images, 17; St. Theodore, Icons, 24-25; Ouspensky, Theology, 41-44.
[588] Хотя православная этика и приняла в свои рамки естественный нравственный закон в том виде, как он выражен в Десяти заповедях, она, тем не менее, не пользуется нормами второй заповеди и не причисляет ее к этике Нового Завета и богословию иконы. См. S. S. Harakas, «Orthodox Ethics», в D. J. Atkinson, D,Н. Field (eds.), New Dictionary of Christian Ethics And Pastoral Theology, 643.
[589] Goldingey, Approaches, 53.
[590] R. J. Sheehan, «Law and Gospel», в D.J. Atkinson, D. Н. Field (eds.), №w Dictionary of Christian Ethics and Pastoral Theology, 541.
[591] Goldingey, Approaches, 55.
[592] Ibid., 65.
[593] Wright, People, 36-37.
[594] Ibid., 31.
[595] Ibid., 31.
[596] Ibid., 31.
[597] Wright, Walking, 127.
[598] J. Goldingey, Theological Diversity and Authority of the Old Testament, 148.
[599] См. J. W. С. Kaiser, Toward Old Testament Ethics, 85-86; где речь идет о значении идолопоклонства в Десяти заповедях.
[600] Т. R. Schreiner, The Low and Its Fulfilment, 120.
[601] Pelikan, Spirit, 107.
[602] См. Kaiser, Ethics, 310-12, который говорит о взглядах Иисуса и Павла на закон и идолопоклонство. См. также Wolfson, Philosphy, 6-7; С.A.A. Scott, New Testament Ethics, 99, 113-14; Schreiner, Low, 66-67, 120, 148, 154.
[603] Православные богословы в целом не говорят о нравственном значе-нии второй заповеди. Ouspensky, Theology, 45, лишь вкратце упоми-нает о склонности человека к идолопоклонству, и то относит это только к Израилю. См. также Zibawi, Icon, 26; Pelican, Spirit, 128; P.Evdokimov, The Art of the Icon: а theology of beuty, 189-91; D.J. Sahas, Icon and Logos, 6-8. Ware, «Theology», 197.
[604] W. W. Kiein, С. L. Biomberg, J. R. Ь. Hubbani (ed.), Introduction to Biblical-lical Interpretation, 29-30.
[605] См. Bediako, Theology, 33.
[606] F. О'. Fearghail, «Philo and the Fathers: The Letter and the Spirit», Т. Finan, V. Twomey (еds.), Scriptural Interpretation in the Fathers, 40. См. также A.С. Thisefton, New Horizons in Hermeneutics 158.
[607] Fearghail, «Philo», 40.
[608] Baggiey, Doors, 48.
[609] Klein, Introduction, 26.
[610] Ibid., 26.
[611] Fearghail, «Philo», 41.
[612] Ibid., 48.
[613] Klein, Introduction, 27, приходит к выводу, что «толкование Филона в большей степени зависело от философии Платона, чем от Библии».
[614] Baker, Testaments, 183.
[615] G. Bray, Biblical Interpretation, 67, отмечает, что, хотя у Павла и встречается аллегория, в частности в 1 Кор. 9:9, Гал. 4:21-31, тем не менее, она «подчинена его главному аргументу и иллюстрирует его; этот аргумент совершенно не зависит от конкретной направленности экзегетики».
[616] Ibid., 195.
[617] Klein, Introduction, 29.
[618] Ibid., 30-31.
[619] Bray, Interpretation, 32.
[620] Ibid., 36.
[621] Wolfson, Philosophi, 57, утверждает, что небуквальное философское толкование привнес в христианство Клемент Александрийский, на-ходившийся под влиянием учения Филона.
[622] Bray, Interpretation, 102.
[623] Klein, Introduction, 32.
[624] Baker, Testaments, 123.
[625] Baggiey, Doors, 47.
[626] G. Goldsworthy, Gospel and Kingdom, 14, утверждает, что связь между естественным значением Ветхого Завета и учением Нового была брошена на изобретательность толкователя, который отвергает исто-рический и естественный смысл Ветхого Завета.
[627] Bray, Interpretation, 102-103.
[628] Ibid., 101.
[629] Ibid., 97.
[630] Wolfson, Philosophi, 44.
[631] М. S. Terry, Biblical Hermeneutics, 660, отмечает, что это было одной из причин преобладания аллегорического подхода.
[632] Baggiey, Doors, 48.
[633] Terry, Hermeneutics, 664.
[634] Klein, Introduction, 35.
[635] Terry, Hermeneutics, 660.
[636] Bray, Interpretation, 107.
[637] См. St. John of Damascus, Images, 16, 21, 42, 86, 87; St. Theodore of Studite, Icons, 80; Языкова, Богословие, 9; Ouspensky, Theology, 42-49, который следует методу толкования св. Иоанна Дамаскина.
[638] St. John, Images, 18.
[639] Ouspensky, Theology, 44.
[640] См. St. John, Images, 27, 28, 42, 65, 84-87. Zibawi, Icon, 26, 31; Р. Henry, «Controversy», 26; McGuckin, «Theology», 51.
[641] См. St. John, Images, 25, 72. См. также Ware, «Theology», 197.
[642] Pelikan, Spirit, 128.
[643] St. Theodore, Icons, 79-80.
[644] Ibid., 39.
[645] Meyendorff, Christ, 191, однако, отмечает, что Феодор Студит знал, что некоторые формы почитании икон принимали форму фетишизма.
[646] Ouspeusky, Тhео1оgу, 42-50.
[647] Ibid., 44.
[648] Ibid., 45.
[649] Ibid., 49.
[650] Ibid., 41.
[651] Ibid., 49-50.
[652] Этот заголовок позаимствован у St. Theodore the Studite, Icons, 35.
[653] Ibid., 35-36.
[654] Ibid., 36.
[655] Ibid., 36.
[656] Здесь главное внимание будет уделяться св. Иоанну Дамаскину и св. Феодору Студиту — главным защитникам икон. Ouspensky сле-дует экзегетике Писания, созданной св. Иоанном.
[657] G. V. Pixley, On Exodus, 132.
[658] См. St. John, Images. 15, 17, 65; St. Theodore, Icons, 20, 24-25, 36, 97; Pelikan, Spirit, 124, 128; Evdokimov, Art, 189-90.
[659] St. John, Images. 15-16.
[660] St. Theodore, Icons, 25.
[661] Ibid., 24-25.
[662] Ibid., 25.
[663] St. John, Images. 17, 25.
[664] J. I. Durham, Exodus, 285.
[665] Т. Е. Frethem, Exodus, 226.
[666] Ibid., 227.
[667] A. Cole, Exodus, 155.
[668] Ibid., 227.
[669] St. Theodore, Icons, 65; St. John, Images, 19. Хотя св. Иоанн и цитирует Деяния 17:29 в отношении ветхозаветного запрета на изображения Бога, он игнорирует тот факт, что Павел цитирует этот запрет несмотря на перевоплощение и говорит об этих образах в негативном ключе, подразумевая таким образом действенность ветхозаветного запрета.
[670] J. P. Miranda, Marx and the Bibie, 58-42.
[671] Ibid., 40.
[672] M. Weiafeld, Deuteronomy 1-11, 205, понимает это как тщательную разработку второй заповеди в законе Моисея.
[673] Ibid., 41.
[674] Ibid., 41. См. также Р. С. Craigie, The Book of Deuteronomy, 135.
[675] St. John, Imoges, 56-57. См. также St. Theodote, Icons, 24-25; Pelikan, Spirit, 124.
[676] Pelikan, Spirit, 124.
[677] Cole, Exodus, 154, 191.
[678] St. Theodore, Icons, 25.
[679] P.J, Budd, Numbers, 233-34. См. также R. К. Harrison, Numbers, 278.
[680] См. разбор Числа 21:9 и 4 Царств 18:4-6 в А, Борисов, Побелевшие Нивы, 111-12.
[681] Ibid., 112.
[682] P. D. Miller, Deuteromttrу, 60.
[683] Pelikan, Spirit, 124.
[684] См. J. N. Oswalt, The Book of Isaiah Chapters 1-39, 366-67.
[685] Ibid., 124.
[686] См. A. Schmemman, The Historfcal road of Eastern Orthodoxy, 226.
[687] St. John, Images, 15-16.
[688] Ibid., 17-18.
[689] Ouspensky, Theology, 44.
[690] St. John, Images, 23.
[691] Ibid., 25.
[692] См. С. Kruse, 2 Corinthians, 100-101.
[693] Ibid., 25.
[694] То же самое можно сказать о его взгляде на Галатам 3:25. См. Images, 18.
[695] St. Theodore, Icons, 82.
[696] Перевод св. Теодора. Icons, 82.
[697] Cm. pelikan, Spirit, 131.
[698] St. Theodore, Icons, 82, 99, 102.
[699] См. L. Morris, The Gospel according to John, 100. См. также В. Lindars, The Gospel оf John, 98-100.
[700] D. A. Carson, The Gospel According to John, 575-77, 656-660.
[701] Исключение, пожалуй, составляют Деяния 17:29; Римлянам 1:23.
[702] St. Theodore, Icons, 45, 108; Pelikan, Spirit, 132; Pelikan, Imago, 98.
[703] Theodore, Icons, 45.
[704] Ibid., 45-46.
[705] Ibid., 45.
[706] Ibid., 108.
[707] Carson, Gospel, 226.
[708] LaGuna, God, 4-17.
[709] Пеликан цитирует св. Феодора. Imago, 98.
[710] LaGuna, God, 4.
[711] Ibid., 13.
[712] St. John, Images, 19-20.
[713] Ibid,, 19-20. См. также Pseudo-Dionysius, Works, 96-105, 146-47.
[714] St. John, Images, 19.
[715] Ibid., 74-75. См. также Sheldon-Williams, Philosophy, 507.
[716] Ibid., 75-79.
[717] Ibid., 78.
[718] Ibid., 86-87.
[719] Ibid., 89.
[720] St. Theodore, Icons, 45ff.
[721] Ibid., 46.
[722] Ibid., 101.
[723] Ibid., 46.
[724] Ibid., 59.
[725] Ibid., 46-47.
[726] Evdokimov, Art, 183.
[727] См. Pelikan, Spirit, 124; St. John, Images, 19.
[728] Ibid., 183.
[729] М. Barth, Н. Blanke, Colossians, 195.
[730] Ibid., 195.
[731] J. D. G. Dunn, The Epistles to the Colossians and to Philemon, 83.
[732] P.Т. О'Brien, Colossians, Philemon, 44.
[733] Barth, Colossians, 195.
[734] St. John, Images, 84.
[735] Ibid., 28. См. также Bulgakov, Church, 119.
[736] St. John, Images, 85.
[737] Ibid., 27. См. также Clendenin, Theology, 73.
[738] St. John, Images, 27.
[739] Ibid., 27.
[740] Ibid., 89.
[741] Ibid., 89.
[742] Ibid., 30.
[743] Pelikan, Imago, 102. См. также Hamilton, Plato, 156b, 861.
[744] Pelikan, Imago, 103.
[745] Практика возжигать ладан, очевидно, пришла в христианское служение из языческих обрядов. См. Pelikan, Imago, 108-9.
[746] Ibid., 104.
[747] Ibid., 104-5.
[748] Ibid., 107-9.
[749] См. Quspensky, Theology, 84; St. Theodore, Icons, 78; St. John, Images, 25.
[750] Giakalis, Images, 52.
[751] Pelikan, Spirit, 121.
[752] Pelikan, Imago, 113. См. также Ellul, Humiliation, 232.
[753] Ibid., 113.
[754] M.E.Kenna, «Icons in theory and practice: an Orthodox Christian example», HR, 24 (1984-85) 352.
[755] Взгляд Pelikan на этот стих. Imago, 114.
[756] Ibid., 99.
[757] См. St. Theodore, Icons, 45, 108.
[758] Pelikan, Imago, 116.
[759] Ibid., 117.
[760] Ibid., 117.
[761] St. Theodore, Icons, 37, 78; Ouspensky, Theology, 48; St. John, Images, 25; Pelikan, Spirit, 121.
[762] Ibid., 118.
[763] Giakalis, Images, 53.
[764] Ibid., 53, примечания.
[765] Pelikan, Imago, 107.
[766] R. T. France, Matthew, 216.
[767] Giakalis, Images, 56.
[768] Ellul, Humiliation, 76.
[769] Giakalis, Images, 56.
[770] Pelikan, Imago, 112.
[771] Giakalis, Images, 56.
[772] Ellul, Humiliation, 246-54.
[773] Kitzinger, «Cult», 124, 150. См. также разделы «Греческая религия», и «Религия и искусство».
[774] Kitzinger, «Cult», 86-124.
[775] Ibid., 117, 123.
[776] Ibid., 100- 101.
[777] E. Bevan, «Idolatry», ER, 66 1 (1926) 269.
[778] Bevan отмечает, что «св. Феодор Студит в письме своему другу писал, что этот мученик в действительности присутствовал на церемонии крещения младенцев посредством своего образа». См. Bevan, «Idolat-ry», 269.
[779] Kitzinger, «Cult», 98. См. также Quenot, Icon, 20.
[780] См. Barnard, «Theology», 12-13.
[781] Ouspensky, Theology, 103.
[782] Борисов, Нивы, 90-92.
[783] Ouspensky отмечает, что недостаток образования у духовенства в прошлом и в настоящем приводит его к неправильному пониманию икон в церкви. См. Ouspensky, Theology, 15.
[784] Cracraft, Reform, 130, 212, 287, 291.
[785] Борисов, Нивы, 90-155.
[786] Тo же самое можно сказать о современной греческой православной церкви и всех других православных церквах. См. М.Е. Kenna, «Icons in theory and practice: An Orthodox Christian Example», HR, 24 (1984-85) 345-68; Е. Castro, G. Limouris, «The Ecumenical Significance of Icons», Limouris (ed.), Icons, 6-7.
[787] Ibid., 110.
[788] Ibid., 155. См. также Bulgakov, Church, 122.



Комментарии: